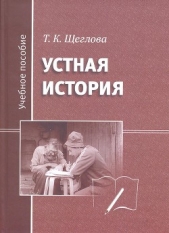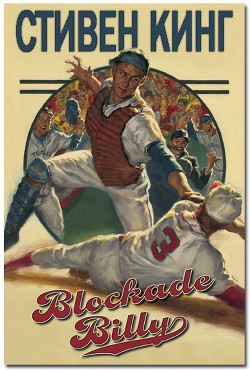Память о блокаде

Память о блокаде читать книгу онлайн
Настоящее издание представляет результаты исследовательских проектов Центра устной истории Европейского университета в Санкт-Петербурге «Блокада в судьбах и памяти ленинградцев» и «Блокада Ленинграда в коллективной и индивидуальной памяти жителей города» (2001–2003), посвященных анализу образа ленинградской блокады в общественном сознании жителей Ленинграда послевоенной эпохи. Исследования индивидуальной и коллективной памяти о блокаде сопровождает публикация интервью с блокадниками и ленинградцами более молодого поколения, родители или близкие родственники которых находились в блокадном городе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Очень долго. (34.0) На хрусталь… (34.0.1) Из разбомбленного дома по нашей лестнице переселились директор деревообрабатывающего завода. Вот. Его жена познакомилась… по одной лестнице, так сказать, в общем, как-то это получилось тоже. (34.1) Мама привела ее домой. Открыла, такой у нас шкаф стоял. Значит, там хрусталь был старинный. Она взяла то, что ей понравилось, там бокалы какие-то, графин. Вот. И дала за это столярный клей. (34.1.1) Ну вы, наверное, уже слышали, что столярный клей тоже был не совсем на последнем месте среди продуктов питания. (34.1.1.1) Потому что столярный клей в те времена он варился на костях говяжьих (смеется), может быть, там еще и остатки мяса были вот. (34.1.2) Так что из этого столярного клея делали студень. Студень. Там мочить надо было несколько дней, потом как-то варить, (34.1.2.1) во всяком случае, был уксус у нас, и очень вкусно было. У меня такое ощущение, что даже я бы с удовольствием и сейчас бы вот поел такого студня. Так что это было не то, что через силу в себя приходилось впихивать. Нет, это казалось как раз очень вкусно. (35) Иногда неожиданно поступали какие-то продукты.

Вообще говоря, тема обмена впервые вводится в сегменте 31.1, где говорится о появлении в городе в самый тяжелый период блокады людей с продуктами после открытия Дороги жизни. Но иллюстрации обмена следуют после рассказа о помощи знакомых матери, которые (в силу своего социального положения) были несколько лучше обеспечены и иногда подкармливали мальчика. Не только детали позитивных оценок, но и упрощенное схематическое представление приведенного выше фрагмента показывает, что, во-первых, сегменты 33.1,33.2 и 34.1 выстраиваются в ряд примеров, а во-вторых, этот ряд осмысляется как пример неожиданного удачного получения продуктов (35). Тем самым он встраивается в более крупную единицу — ряд, итог которому подводит сегмент 39 о неожиданных удачах (сюда же и 39.1–39.2.1 о еде три раза за день и супе из крапивы).
И в начале, и в конце интервью мы встречаем эпизоды, включенные в эту же линию повествования об удачах и счастливых случайностях, но рассказывающие о том, как удалось избежать смертельной опасности во время бомбежки или обстрела. Первая бомбежка, пережитая еще до начала блокады на даче летом 1941 года, осталась самым страшным воспоминанием:
Информант: (5.0.2.1) <…> Вдруг, среди ночи, бабах, бабах, бабах эта самая зенитка. Начала стрелять. (5.о.2.1.1) И потом жуткий взрыв раздался. Вот. Я хорошо помню, что у меня от страха начало двоиться в глазах. Это было первый и последний случай в моей жизни, что мне потом не приходились переживать, такого не было. Ну вот это я зафиксировал, что я смотрю, и все как бы сдвоенное вижу. Реальный предмет и его же чуть, значит там, левее или правее смещенный.
В конце интервью описывается эпизод, когда мать, предчувствуя опасность, не пустила мальчика в школу. Именно в тот день он мог стать жертвой обстрела, который причинил разрушения по соседству со школой (48.1.2).
Как бы полемизируя с содержанием публикаций о блокаде, стремящихся шокировать читателей, и, вероятно, предполагая, что эпизоды антисоциального поведения жителей блокадного Ленинграда могут быть известны исследователю из других интервью, рассказчик говорит о том, что ему также известны многочисленные эпизоды такого рода из блокадных дневников, изучением которых он занимался специально многие годы. Однако в его семье и в его кругу ничего подобного не было, хотя случались конфликты (43–43.2.1). Фрагмент, повествующий о примере такого конфликта, наименее внятен во всем рассказе. Но все-таки можно понять, что речь идет о том, как облегчить участь умирающего от голода человека, дав ему однажды кашу вместо обычного жидкого супа:
Информант: (43.2) <…> Ну вот этот умирающий сосед, ему хотелось, если что-то можно сделать, чтоб это было, так сказать, не вода с одной крупиной, а хоть немножко чтоб такое ощутимое. Вот. Понимаете. А вот родственница его, которая, значит, здесь жила, иногда на казарменном положении, вот здесь же она была сторонником вот того, что пусть это будет как можно больше. Вот были конфликты на этой почве, там и мама как бы защищала и его, говорила, что ну ты же знаешь, он уже не жилец на этом свете, ну сделай вот… (43.3) В общем, на такой почве были какие-то конфликты, знаете. Вот. Но это чисто такие, которые могли быть и, естественно, в обычной какой-то жизни. Понимаете, так что, в общем… Вот. А каких-то таких страшных вещей не было.
Обобщение смысла этого фрагмента, данное в сегменте 43–3> призвано укрепить линию рассуждений о сохранении человечности в условиях блокады. Между тем случаев потери человеческого лица не было «у нас», в среде знакомых интеллигентов. Даже конфликты у нас касались большей или меньшей степени милосердия, в любом случае не выходившей за пределы порядочности. Некоторые подробности рассказа позволяют нам считать, что одну из своих задач рассказчик видит в том, чтобы представить слушателю именно интеллигентский взгляд на события.
В качестве подтверждения описываемых событий информант многократно ссылается на свой дневник (13.1.2.1,30.1.1.1,31.2.0.2.1.1,39.1, 39.2, 50–50.1), который он начал вести в специальном блокноте с началом войны. Его записи стали регулярными с наступлением блокады и прекратились летом 1942 года, когда закончился блокнот. Размышляя теперь о своем дневнике, рассказчик объясняет, почему дневник кончился летом 1942-го: не только потому, что кончился блокнот, но и потому еще, что жизнь в тех условиях вошла в привычку, стала «подростковой обычной жизнью» (50.1). Другие ссылки относятся к письмам матери к своей приятельнице, которые стали известны рассказчику через много лет после войны (41.1,41.2).
Эти ссылки и многочисленные замечания, касающиеся характера собственных воспоминаний, свидетельствуют о дистанции, которую выдерживает информант в своем рассказе по отношению к собственному опыту, ныне осмысляемому с позиции человека, прожившего долгую жизнь. Он видел блокаду глазами мальчика, и о переживаниях взрослых он может только предполагать: «(28)…конечно, взрослые переживали много больше, наверно, и для них это было во много раз тяжелее», ср. также в самом начале интервью:
Информант: (3) Финскую войну я помню только как сам факт. Некоторое такое беспокойство, потому что вот война, но и только. Потому что на жизни она как-то не отразилась абсолютно. Вот. Во всяком случае, на моей детской жизни. На счет родителей сказать не могу. Тоже так не ощущалось, что они как-то особенно этим озабочены. У нас в этой войне никто не участвовал.
Подспудно сопоставляя свои воспоминания со стереотипными представлениями о блокаде и общими местами рассказов о ней, он тем самым выделяет свой рассказ как предельно достоверный, содержащий только те подробности, которые остались в памяти мальчика (или для которых есть документальные свидетельства из семейного архива):
Информант: (24) Не могу сказать, чтобы я помнил о муках голода. Я помню себя сидящим, свернувшись калачиком, в каком-то ватнике, и, конечно, там валенки, шапка и все прочее, на кресле около буржуйки, в которой хоть какой-то огонек есть вот. Но вот так чтобы «есть, есть, есть, есть», такого я не помню.
5
Скрытая полемика в рассказах о блокаде: разное понимание героизма
В анализируемом нами интервью информант явно и неявно отталкивается от стереотипов, бытующих как в современной постсоветской публицистике, так и обязанных своему происхождению советскому дискурсу. В значительной мере противопоставляя свой рассказ этим представлениям и рисуя собственную картину блокады и блокадного опыта, информант тем не менее использует стереотипы в качестве опоры для построения рассказа. В высказываемых оценках рассказчик только один раз говорит о «героическом» поведении, то есть опирается на категорию, принадлежащую официальному дискурсу [194]: «(30.0) Ну вот опять-таки мама. Она, конечно… она, конечно, проявляла себя, видимо, героически. В частности, благодаря ней были какие-то продукты».