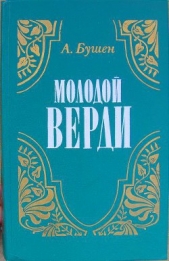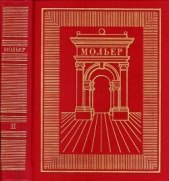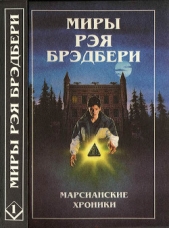Брамс. Вагнер. Верди
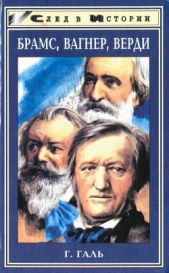
Брамс. Вагнер. Верди читать книгу онлайн
Автор книги — старейший австрийский музыковед и композитор, известный главным образом своими исследованиями творчества венских классиков.
Рассказывая о жизненном пути каждого из своих героев, Г. Галь подробно останавливается на перипетиях его личной жизни, сопровождая повествование историческим экскурсом в ту эпоху, когда творил композитор. Автор широко привлекает эпистолярное наследие музыкантов, их автобиографические заметки.
Вторая часть каждого очерка содержит музыковедческий анализ основных произведений композитора. Г. Галь излагает свою оценку музыкального стиля, манеры художника в весьма доходчивой форме живым, образным языком.
Книгу открывает вступительная статья одного из крупнейших советских музыковедов И. Ф. Бэлзы.
Рекомендуется специалистам-музыковедам и широкому кругу читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вслед за тем Брамс выпускает перо из рук. Возможно, из-за болей, а скорее всего из-за мучительного глухого недовольства, которое неизбежно несет с собой тяжкая болезнь, он так и не сумел найти в себе силы, чтобы сосредоточиться на работе. Не нужно думать, будто он не сознавал значения последних написанных им нотных страниц. Бах, как и он, простился с миром хоральной прелюдией «Пред трон твой днесь являюсь я».
Современники и потомки
В известном смысле искусство — это всегда прикладное искусство. Художника нельзя отделить от окружающего его мира, в котором и для которого он творит, и его творчество принадлежит в первую очередь этому окружающему миру. Бах или Гайдн, создавая день за днем свои произведения, даже не задумывались над тем, есть ли в их творчестве какой-то более высокий смысл, чем просто честное исполнение своего профессионального долга. То, что это творчество обрело бессмертие, явилось побочным результатом его художественной безупречности.
Современный художник влачится в цепях собственного тщеславия. Он уже не ремесленник, не раб каждодневных служебных обязанностей. Но зато он утратил такое замечательное свойство, как естественность, с которой Бах, например, мог сочинять очередную востребованную на некий случай духовную кантату, Гайдн — симфонию, Моцарт — серенаду, сочинять, не задумываясь о дальнейшей судьбе этого произведения, но отдаваясь ему умом и сердцем, потому что просто не умел иначе.
Брамсу присущ весьма трезвый взгляд на прикладной характер музыки. Начиная с многочисленных композиций для любительского женского хора в Гамбурге и кончая поздними сонатами для кларнета, он неизменно писал произведения, вызванные к жизни потребностями повседневной музыкальной практики и предназначенные для этой практики. Формула «L’art pour l'art» [129] была ему просто непонятна. Его друзья были для него и критиками, а публика — судебной инстанцией, исключавшей возможность апелляции. И если приговор был не в его пользу, он ограничивался лишь тем, что в следующий раз старался написать лучше.
О том, чего это ему стоило и насколько одинок художник, вынужденный руководствоваться исключительно своим эстетическим чутьем и собственной совестью, можно судить на примере Четвертой симфонии. В сентябре 1885 года Брамс вернулся в Вену из Мюрццушлага, где проводил лето, с готовой партитурой. Желание увидеть, какое впечатление производит новая симфония, оказалось настолько велико, что он не поленился тут же переложить ее для двух фортепиано, чтобы затем сыграть ее вместе с Игнацем Брюллем в качестве партнера для немногих избранных друзей. Кальбек, свидетель этого события, рассказывает о нем, не щадя себя, а значит, вполне достоверно. Сомнительным — и это, конечно, следует здесь учесть — представляется лишь качество передачи партитуры на двух роялях самим композитором, давно уже преступно запустившим занятия на фортепиано и, несомненно, нервничавшим, и его партнером, пусть и высокоодаренным, но игравшим практически без подготовки, прямо с листа.
Единственной внятной реакцией на первую часть явилось — после некоторого молчания — неожиданное замечание Ганс-лика, самого ограниченного из присутствовавших, который, глубоко вздохнув, сказал: «Всю часть у меня было такое ощущение, будто меня непрерывно колотят два каких-то очень умных человека». Далее предоставим слово самому Кальбеку: «Непривычное по звучанию, мелодически насыщенное Andante мне очень понравилось. И поскольку опять никто не проронил ни слова, я решился на какую-то чудовищную банальность, которая, пожалуй, произвела еще более неприятное впечатление, чем это жуткое молчание. Взъерошенное, отчаянно-веселое скерцо в сравнении с предшествующими частями показалось мне слишком легковесным, а грандиозный финал в форме пассакальи — лучшая из симфонических частей, написанных Брамсом в форме вариаций, — неуместным в качестве заключительной части данной симфонии».
И вот, проведя бессонную ночь, добряк Кальбек, набравшись храбрости, отправляется с визитом к Брамсу, заклиная композитора воздержаться от публикации явно не удавшегося произведения — или по крайней мере радикально переработать его: «На мой вкус, я бы выбросил в корзину скерцо с его слишком резкой главной и весьма банальной побочной темами, издал бы великолепную чакону как самостоятельное произведение в вариационной форме и сочинил бы две новые части, которые больше подошли бы к двум оставшимся». А Брамс, в виде исключения, даже не нагрубил в ответ. Третью часть он защищать не стал, поскольку о ценности мелодий спорить не приходилось… Финал он пытался оправдать ссылкой на финал «Героической» — правда, чисто с формальной точки зрения, не сопоставляя содержание и художественную значимость обоих сочинений, — и вообще тем, что Бетховен, мол, не стеснялся заканчивать свои сонаты и симфонии вариациями».
Решениям в области формы, санкционированным Бетховеном, Брамс доверял безгранично, и это никогда его не обманывало. Правда, здесь играло свою роль и его собственное безошибочное чувство формы, умение уловить в каждом сугубо индивидуальном, единственном в своем роде случае проявление имманентного, так сказать, самой природой установленного — принципа композиции. И на этот раз он разобрался в ситуации лучше, чем его критически настроенные друзья. С самого первого исполнения на эстраде, во время концертной поездки мейнингенцев под управлением Бюлова, Четвертая симфония произвела глубокое впечатление, которое затем все более углублялось по мере все более обстоятельного знакомства с ней. Иными словами, публика в данном случае оказалась умнее специалистов.
Специалистам, однако, удалось на какое-то время смутить его. «Решусь ли я доверить эту вещь слушателям — большой вопрос, — писал он вскоре после упомянутого венского прослушивания Элизабет фон Герцогенберг. — Бюлов, правда, очень хочет начать с нее уже 3 ноября во Франкфурте…» Лишь публичное исполнение развеяло его сомнения. И уже окончательно, причем даже не вследствие реакции публики, как ни важна была она для него, а по той причине, что лишь публичное исполнение позволило ему пережить это свое произведение объективно, вне связи с собственной личностью.
Беспощадность самооценки, для которой единственным критерием служили высочайшие достижения великих мастеров, приводит к тому, что собственное творчество лишь в редчайших случаях приносит Брамсу нечто большее, чем чисто временное и к тому же частичное удовлетворение. Если Брамс и говорит о нем, то в обычной для него скептически-насмешливой манере. Однажды он посоветовал Кларе сыграть в Гамбурге какой-нибудь из концертов Моцарта, на что она возразила, что публику-де это не слишком заинтересует. И тогда, отвечая ей, Брамс пишет: «Наш брат, собственно, только и живет за счет того, что люди обычно не понимают и не ценят самые лучшие произведения, какие есть. Эх, если бы они хоть на миг уразумели, что лишь по капле получают от нас то, чем всласть могли бы напиться в тех вещах». А Гансу Кеслеру [130] он, разговаривая с ним о преходящем характере музыки, сказал: «Я хорошо знаю, какое место займу со временем в истории музыки. Место, которое занимал в ней и сегодня еще занимает Керубини, — вот моя судьба». Разумеется, тут он был не прав. Однако согласимся, что по части скепсиса в отношении собственного творчества он ничуть не уступал критиковавшим его противникам.
С другой стороны, было бы противоестественно, если бы его не радовала нараставшая как лавина слава. Если он и находил ее незаслуженной, то лишь потому, что всегда рассматривал свое творчество не иначе как в сопоставлении с гигантскими достижениями прошлого. И конечно, за скуповатым юмором, который сквозит в одном из его сообщений Кларе (Вена, октябрь 1879 года), нетрудно почувствовать внутреннее удовлетворение: «В воскресенье в придворной опере буду дирижировать своим реквиемом. До него будет увертюра «Афалия» (Мендельсон), после — «Героическая» — это чтобы ты хоть мысленно могла что-нибудь услышать. Собственно, директор хотел одного сплошного Брамса, но я сделал эту программу, которая гораздо лучше. Дело в том, что 1 и 2 ноября праздник Всех Святых, когда все поголовно идут на кладбище, а вечером не прочь послушать «Мельника и дитя» [131] или какой-нибудь реквием». Отметим, кстати, поразительную обширность программы. Однако в этом плане она отнюдь не исключение. У людей, менее избалованных концертами, чем мы сегодня, аппетит был явно получше.