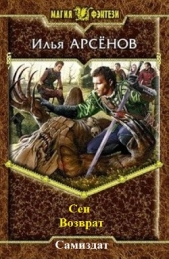Зверь из бездны том IV (Книга четвёртая: погасшие легенды)

Зверь из бездны том IV (Книга четвёртая: погасшие легенды) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наталиса арестуют, подвергнут допросу. Застигнутый врасплох, не сговорясь заранее со Сцевином на случай неудачи покушения, он — на вопрос о сомнительном свиданий с последним — дает показание, с показанием Сцевина несогласное. Обвиняемых заковали в кандалы, стали допрашивать с пристрастием, пугнули пыткой, и — плоть оказалась в них сильнее духа: струсили и покаялись. Первым сдался Наталис. Более Сцевина осведомленный об организации заговора, он решил спасти свою голову чужими головами и из ловкого революционера сразу превратился в еще более ловкого доносчика. Первым он выдает Пизона. Вторым — Аннея Сенеку. Тацит, по обыкновению, притворяется неверующим в прикосновенность Сенеки к революции и объясняет оговор Наталиса либо той возможностью, что Наталис ошибался в виновности философа, либо — рассчетом снискать себе милость Нерона обвинением старого его учителя, с которым цезарь был теперь в ссоре, которого ненавидел, от которого жаждал отделаться под каким-либо благовидным предлогом.
Сцевин, узнав, что Наталис выдает, потерял голову. Раз все пропало, — неужели ему гибнуть одному? Нет, на миру и смерть красна. Да, может быть, за предательство-то еще и помилуют? И он раскрывает всю революционную организацию, сколько сам ее узнал, называя по именам вожаков. Тех мгновенно хватают. Лукан, Квинтиан и Сенецион попробовали запираться.
— Да вы не бойтесь, — убеждают их. — За признание вам выйдет помилование. Вашей жизни ничто не угрожает, — вы только назовите нам остальных.
И эти несчастные, изнеженные, жизнелюбивые простаки бросились в расставленные им следовательские силки с кроличьей готовностью и поспешностью, которые были бы смешны, если бы не были слишком отвратительны. Квинтиан выдает Глития Галла, Сенецион — Анния Поллиона, своих интимнейших друзей. Выспренный поэт поэт-декламатор Л. Анней Лукан, автор «Фарсалий», знаменоносец революции, превзошел подлостью всех: он предал в руки Неронова судилища Ацилию, свою родную мать.
За каждым новым предательством следовали новые аресты, за каждым новым арестом новые предательства. В Риме разыгрывалась настоящая оргия трусливого доноса. Стоило пугнуть пытками, и арестованные спешили откупиться от опасности, выдавая для тюрем, кандалов и допросов с пристрастием самых близких, самых дорогих себе людей. Благорожденные сенаторы и всадники соперничали между собой в трусости и подлостях измены. Лукан, Сенецион и Квинтиан, усердствуя, оговорили столько народа, что обширностью раскрываемого заговора вогнали Нерона в страх и хандру. Ему показалось, что весь Рим против него. Он заперся в замке Сервилиева парка, усилил свой почетный караул и объявил Рим на военном положении. Городские стены были заняты солдатами; цепи часовых рассыпаны по береговым линиям Тибра и Остийской гавани; по площадям, улицам, предместьям и ближайшим городам рыскали патрулями конные и пешие воинские отряды; в домах шли обыски. Особенно усердствовала германская гвардия, излюбленная опора цезарей, верная даже Калигуле чисто-собачьей преданностью. Нерон доверял ей, — как лично-наемной, чужестранной и потому ненавистной населению, более, чем римским легионерам. Аресты совершались массами. Толпы заподозренных приводились к воротам Сервилиева парка, где заседал грозный и беспощадный трибунал, состоящий из самого Нерона, Тигеллина и... Фения Руфа! Кто являлся перед ними для допроса, мог считать себя заранее погибшим. Всякая вина была виновата, все ставилось в преступление: улыбка при виде кого-либо из заговорщиков, ласковое приветствие при свидании. Гибельно перетолковывались случайные обмолвки в самых невинных разговорах; придавалось подозрительное значение совершенно нечаянным визитам; объясняли злым умыслом приглашения на обед в один и тот же дом, встречи в цирке или театре...
Фения Руфа судьба хранила: никто из арестованных не успел или не хотел еще обличить его, и — покуда — даже тень подозрения его не касалась. В стараниях сохранить и поддержать репутацию своей лояльности, он усердствовал на допросах едва ли не более самих Нерона и Тигеллина, являя себя неумолиможестким к недавним единомышленникам и сообщникам.
Как при таких условиях его не выдали сразу, трудно объяснить. Надо, впрочем, отметить, что не только Фений Руф, но и вся партия заговора еще оставались неведомыми для следствия. Быть может, придворная партия была худо осведомлена об ее составе и, выдавая своих господчиков, не могла назвать никого из влиятельных преторианцев? Быть может, все эти Сцевины, Луканы и т.д. рассчитывали, что не все еще погибло для них, покуда Фений Руф и военные на свободе? что, если проиграно дело заговора Пизоном, то осталась еще попытка к открытому преторианскому бунту, который низвергнет Нерона, отворит темницы и разобьет кандалы его жертв? Ведь, покуда были только допросы, да пытки; казни еще не начинались.
Но сказанная возможность — не более, как моя личная гипотеза, вызванная недоумением: почему в то время, как одна половина заговорщиков — придворно-аристократическая — проявила столько, так сказать, самопожирающей подлости, другая половина, военно-демократическая, не подверглась ее разоблачениям и оставалась некоторое время в тени? Настолько в тени, что глава солдат-заговорщиков, Фений Руф, был даже приглашен в число следователей, а душа организации, Субрий Флав, во все время допросов, находился при Нероне, в качестве дежурного флигель-адьютанта. Если же отказаться от скользкого пути гипотез, придется констатировать безусловно одно: редкое общество проявляло в истории больше негодяйства и трусости, чем компания Пизонова заговора в первые дни по его раскрытии.
На темном фоне отвратительных предательств загорелась тогда всего лишь одна светлая точка, — в оргии животного эгоизма, не рассуждающего и безжалостного жизнелюбия, выдался лишь один благородный порыв. И — к огорчению Тацита — этот «слишком блистательный» пример геройства дала женщина, а — к сугубому огорчению — даже и не аристократка, но представительница как раз того класса, который великий римский историк особенно презирал и ненавидел: вольноотпущенница, — да вдобавок еще и кокотка, — все та же злополучная Эпихарис.
Нерон вспомнил, что она содержится в предварительном заключении, по доносу Волузия Прокула, недоказанному тогда, но теперь получившему полное подтверждение в раскрытии Пизонова заговора. Приказано было возобновить следствие по делу Эпихарис. Допрос она выдержала твердо, не признавшись ни в чем, никого не называя. Нерон приказал ее пытать в расчете, что нежное женское тело перед ужасами боли окажется слабее духа. Он жестоко ошибся. Эпихарис высекли кнутом, — она молчит, стали жечь каленым железом, — она молчит. Палачи пришли в ярость. Непобедимое упорство женщины, торжествующей над свирепой изобретательностью мужчин, заставило их перейти к самым страшным пыткам римского застенка. Эпихарис молчала. Наконец, палачи выбились из сил. Допрос отложен на завтра. Эпихарис — едва живую, с вывихнутыми ногами — отнесли в тюрьму.
Оставшись в «одиночке», она взвесила свои силы, — и поняла, что истратила всю себя, чтобы честно выдержать пыточные зверства. На новый допрос ее не хватит, истерзанное тело — при новых муках — заговорит против ее воли. Нерон и Тигеллин добьются нужных им признаний, друзья и единомышленники Эпихарис очутятся в тюрьмах, сложат головы на плахах...
Назавтра пришли за Эпихарис: в застенок! Идти она не могла: вывихнутые ноги не держали. Положили ее в носилки, понесли... и принесли к судьям — мертвую. Благородная женщина сумела спасти друзей от гибели, себя — от предательств: она удавилась шнурком от корсета (fascia), туго привязав его к спинке носилок и потом всем корпусом осунувшись вперед, в глухую петлю...
Не легко было Тациту отмечать этот подвиг низкорожденной женщины, и с его стороны рассказ об Эпихарис — тоже, своего рода, подвиг исторического беспристрастия. Как ни презирает Тацит низшие классы своего общества и, в особенности, вольноотпущенников и вольноотпущенниц, однако, не может утаить, что из женских образов, мелькающих на кровавых страницах его летописи, едва ли не два только освещают эпоху сиянием истинно-женского благородства, величием истинно-женской, любвеобильной души: вольноотпущенница Актэ — «muliercula», любовница Нерона, и вольноотпущенница же Эпихарис, заговорщица против него.