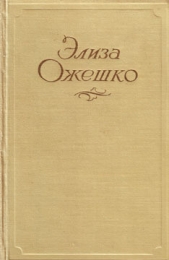Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X — начало XIX в.)

Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X — начало XIX в.) читать книгу онлайн
Данное исследование являет собой первую в российской исторической науке попытку разработки проблемы «истории частной жизни», «истории женщины», «истории повседневности», используя подходы, приемы и методы работы сторонников и последователей «школы Анналов».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Практически во всех мемуарах рассматриваемого времени, как в «мужских», так и в «женских», говорилось — как о будничном явлении! — о тяжелых детских болезнях и ранних смертях детей. Крестьянки, по словам информаторов середины XIX в., даже надеялись, «може не будут жить»: так тяжело было бремя частых родов и многодетности и так ожидаема смерть. «По сто тысяч младенцев не свыше трех лет» — такой высчитал ежегодную смертность М. В. Ломоносов, отметивший, что матерей, «кои до 10, а то и до 16 детей родили, а в живых ни единого не осталось», было немало [24]. Поразительно высокая детская смертность сохранялась в семьях буквально всех сословий ХVIII в. Жена дворянина Андрея Болотова была четырнадцатилетней, когда умер их полугодовалый первенец. Смерть сына она восприняла как неизбежность и лишь надеялась, что новая беременность сможет помочь «забыть сие несчастие, буде се несчастьем назвать можно» [25]. В семье Ивана Толченова, автора «Журнала или записки жизни и приключений» (конец XVIII в.), из девятерых детей вскоре после рождения умерли семь [26].
При трагическом исходе (смерти роженицы) вдовец старался возможно быстрее жениться вновь [27], иногда даже «когда не исполнилась и година» [28]. В крестьянском быту «вдовствовали исключительно старики, всех же остальных заставляли (выделено мною. — Н. П.) вступать в новый брак»[29]. Так же поступали — когда из рациональных, а когда и из эмоциональных соображений — и оставшиеся вдовыми молодые матери, если неожиданно умирал отец ребенка [30]. Тем не менее фольклор зафиксировал приоритет наличия именно матери у ребенка: «Отца нет — полсироты, матери нет — круглый сирота!» [31].
Болезни и скоропостижные смерти рожениц были причиной того, что восприемницами, а затем воспитательницами детей часто бывали старшие сестры [32] или тетки (сестры матерей) [33] новорожденных. Вероятно, именно этот фактор и сыграл решающую роль в сохранении и умножении обрядов и ритуалов, связанных с крестинами. С одной стороны, они свидетельствовали об укоренении православных идей, с другой — о слиянии православной обрядности с народной. Опасение умереть непредвиденно рано, преждевременно, заставляло родителей брать в крестные матери своим детям совсем юных девочек, зачастую — старших сестер [34], которые и перенимали на себя ответственность за воспитание крестниц в случае сиротства [35].
Бывали случаи удивительные. По воспоминаниям М. С. Николевой, родившейся в начале XIX в., ее бабушка, жена коменданта г. Нерчинска Я. И. Еремеева, умерла в родах, следом умер отец новорожденной, а девочку (мать мемуаристки) вскормил и воспитал денщик отца, «подкладывая ее к козе». Девочку он берег, как мог, пока не пристроил в дом некой А. А. Никелевой, жены губернатора г. Тобольска, воспитавшей сироту наравне с родными детьми [36]. Поступок «доброй и умной женщины», как охарактеризовала губернаторшу мемуаристка, был типичен для дворянок, того времени. Сплошь и рядом в более зажиточных и знатных семьях воспитывались и дети бедных (а иногда и отнюдь не бедных!) родственников [37], а то и вовсе посторонних людей [38]. В крестьянских семьях матери «по охоте», как тогда говорили, брали в семью подкидышей [39]. Мотивы подобных поступков (передачи ребенка на воспитание из одной семьи в другую) были иногда — морально-педагогические, в иных случаях — житейские, бытовые (здоровье ребенку было легче сохранить в семье, «под присмотром») [40].
Чаще, разумеется, ребенок рос в родной семье. При этом многие дворянки признавались в своих мемуарах, с недоумением и досадой, что их рождению не радовались — оттого только, что они не были мальчиками-первенцами (которым, кстати, в крестьянской среде нередко давали имя «Ждан» [41] и называли «соколятами»: «Первые детки — соколятки, последние — воронятки») [42]. Е. Ф. Комаровский записал в своих мемуарах о рождении первого сына: «28 мая 1803 года… Бог мне даровал перваго сына графа Егора Евграфовича». И продолжал ниже: «О рождении прочих моих детей записано в святцах, и потому поминать здесь о том я нахожу излишним…» [43] Примерно так же рассуждал и Иван Толченое, отметивший в своем «Журнале» день, когда он был «обрадован благополучным разрешением от бремени Анны Алексеевны. Родился сын» (на 9-м году после бракосочетания) [44]. О других детях мемуарист и упоминать не стал. «Дочери! Что в них проку! ведь они глядят не в дом, а из дому», — рассуждал дед Сергея Аксакова, демонстрируя устойчивость старых, народно-традиционных воззрений на дочерей и сыновей, которые в дворянской среде, казалось бы, должны были быть давно уже вытеснены новыми «чувствованиями» [45].
В возрасте между 30-ю и 40-а годами [46] дворянки рожали весьма часто, но такие роды у них были, как правило, не первыми и потому часто протекали с осложнениями [47]. В немолодом возрасте женщины смотрели на рождение новых детей как на тягость, на неизбежное зло. «Родители мои не чувствовали радости при моем появлении на свет, какую обыкновенно чувствуют при рождении первенцев, — признавалась на страницах своих воспоминаний некая А. Щ. — Они смотрели на меня как на новую обузу, которая свалилась им на шею…» [48]. С тем же чувством начинала свои мемуары и одна из первых выпускниц Института благородных девиц при Смольном монастыре — Г. И. Ржевская. С горечью констатировав «нерадостность» события своего рождения для родителей, она привела рассказ о нем одного из родственников: «Огорченная мать не могла выносить присутствия своего бедного 19-го ребенка и удалила с глаз мою колыбель… О моем рождении — грустном происшествии — запрещено было разглашать… По прошествии года с трудом уговорили мать взглянуть на меня…» [49].
Что же говорить о крестьянских семьях! «Каб вы, деточки, часто сеялись, да редко всходили!» — горестно восклицали матери-крестьянки [50] (и тем не менее приговаривали: «Много бывает — а лишних не бывает») [51]. По словам аббата Шаппа, побывавшего в России в Екатерининскую эпоху и общавшегося с императрицей, в среде крепостного крестьянства безразличие к детям объяснялось тем, что «сии плоды законной любви» могли быть «похищены» у родителей в любую минуту хозяином-душевладельцем [52]. Теневыми сторонами крестьянского быта, невозможностью прокормить большое число детей объяснялись случаи их заклада и продажи («А буде я, Василей, на тот срок денег не заплачю, волно ему, Андрею, той моей дочерью Овдотьей владеть и на сторону продать и заложить…») [53]. Однако среди найденных нами закладных на детей XVIII — начала XIX в. не встретилось ни одной написанной матерью: все — по инициативе и решению отцов [54].
Многодетность могла быть вполне в порядке вещей не только в крестьянской среде («У кого детей много — тот не забыт от Бога») [55], но и в дворянских семьях среднего достатка [56]. Семьи же с одним-двумя детьми попадались нечасто (за исключением тех, где столько детей выживало и доживало до совершеннолетия, в то время как остальные умирали во младенчестве) [57]. «Родилась я, шестая дочь… Нас было уже девять человек, и старшему моему брату шел 23-й год, — писала о событиях, свершившихся „в начале текущего столетия” (XIX в.) М. С. Николева. — Теперь бы такое приращение почли бы чуть не несчастием. В то время так не думали: многочисленное семейство считалось не бременем, а благословением свыше. Вся семья встретила радостно мое появление на свет…» [58] Аналогичные по тональности воспоминания о «великой радости» рождения ребенка (дочери!) можно найти и у А. Е. Лабзиной [59]. Н. Б. Долгорукая (урожд. Шереметева) тоже вспоминала, что «была дорога» своей матери, хотя была у нее уже четвертым ребенком, что день ее рождения «блажили, видя радующихся родителей… благодарящих Бога о рождении дочери» [60]. В эпистолярном наследии русских государей примеры исключительной радости родителей, связанной с рождением дочерей, очень многочисленны [61]. Мальчиков-первенцев (а тем более единственных!) [62] ожидали с еще большим, можно сказать — с благоговейным, нетерпением и старались спасти от возможных хворей [63] («слезы радости потекли из глаз родителей моих при виде нетерпеливо ожидаемого младенца») [64]. Если была необходимость выбора между сыном и дочкой — невольно (или преднамеренно?) предпочитали спасти и выходить в первую очередь мальчика [65]. Судя по воспоминаниям Е. Р. Дашковой, она особенно берегла сына (по сравнению со старшим ребенком, девочкой), хотя мальчик с детства рос болезненным. Обнаружившийся рахит и склонность к чахотке (нередкие для Петербурга заболевания) заставили бывшую статс-даму «переменить климат» и отправиться в длительное путешествие «для поправки здоровья детей» [66]. Но были и семьи, где с той же радостью воспринималось рождение дочерей, и именно для матерей «не существовало разницы между сыном и дочерью» [67].