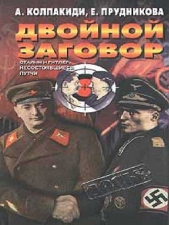Ленин — Сталин. Технология невозможного

Ленин — Сталин. Технология невозможного читать книгу онлайн
Большевики не верили в Бога и не любили Россию, однако на крутом переломе всё же именно они её и спасли. Когда обанкротились все, кто верил и любил.
Задачи, которые пришлось решать большевикам, оказались не под силу ни государственным деятелям царской России, ни опытным чиновникам и управленцам.
Между тем наследство они получили такое, на какое никто нормальный, в здравом уме и твёрдой памяти, не покусится. Для того клубка проблем, каким являлась послереволюционная Россия, сразу и названия не подберёшь… Механизмы, запущенные в феврале 1917 года, надолго пережили правительство, которое их запустило. Все, кто хоть сколько-нибудь разбирался в экономике и государственном управлении, понимали, что Россия погибла…
Найдётся немало желающих поспорить на эту тему, но факты таковы, что именно Ленин и Сталин спасли Россию.
* * *Книга содержит несколько таблиц, для просмотра рекомендуется использовать читалки, поддерживающие отображение таблиц: CoolReader 2 и 3, ALReader.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но, что самое удивительное, и «верхи», «сливки общества», те самые, для которых Россия была полна упоительных вечеров, французских булок, лебедей-саночек и румяных гимназисток, не только не могли, но и не хотели жить по-старому Правда, как жить по-новому, они не знали, но это не мешало российской верхушке с упоением сверлить дырки в бортах собственного корабля и подрывать корни у того дуба, желудями с которого она питалась. В какой-то наивной вере, что этот корабль не потонет и дерево не упадет — откуда они взяли столь странные заблуждения, Бог весть, но ведь и сверлили, и подрывали…
Интереснейшие мемуары оставил великий князь Александр Михайлович, бывший по своему положению во многое посвященным. Он писал:
«Императорский строй мог бы существовать до сих пор, если бы „красная опасность“ исчерпывалась такими людьми, как Толстой и Кропоткин, террористами, как Ленин или Плеханов, старыми психопатками, как Брешко-Брешковкая или лее Фигнер, или авантюристами типа Савинкова и Азефа. Как это бывает с каждой заразительной болезнью, настоящая опасность заключалась в многочисленных носителях заразы: мышах, крысах и насекомых…»
Кого имел в виду великий князь под носителями заразы? О нет, отнюдь не марксистов. Он имел в виду самую верхушку российского общества.
Невыносимое положение «низов» усугублялось тотальным разложением «верхов» и тяжелейшим кризисом власти. Короче говоря, империя к тому времени прогнила насквозь и, как и положено любой уважающей себя рыбе, гнила она с головы.
Не будем говорить о пороках, свойственных гнилому обществу — за сто лет мир в этом смысле ушел куда как далеко, и что в те времена называли разнузданными оргиями, сейчас показывают по телевизору в обычные, не ночные часы. Нас интересует лишь одна тема — борьба общества против власти, ставшая основной проблемой России еще в начале XIX века и доставшаяся в наследство большевикам. Если на протяжении ста лет хорошим тоном было ни во что не ставить собственное правительство, наивно думать, что со сменой власти это пройдет — и, став властью, большевики столкнулись ровно с теми же проблемами, что и цари. Правда, со смутьянами своими они поступили иначе, чем во времена империи, но причина понятна — они слишком хорошо знали, чем такие вещи чреваты. Нам тоже, кстати, это известно — и не знаю, как у кого, а лично у меня нет сочувствия к жертвам статьи 58–10 [110]. Слишком хорошо знаком мне и по истории, и по жизни этот тип людей…
Тупики духа
Зеркала слишком послушны. Послушны и лживы. Надетая маска становится лицом. Порок превращается в изысканность, снобизм — в элитарность, злоба — в откровенность. Путешествие в мир зеркал — не простая прогулка. Очень легко заблудиться.
«Бытие определяет сознание» — говорят марксисты. Да, конечно, а основной закон этого взаимодействия сформулировал в своё время Козьма Прутков: «Щёлкни кобылу в нос — ока махнет хвостом». Один и тот же народ во время Великой Отечественной войны выносил невероятные тяготы без протеста, а в конце 80-х, будучи вполне сытым, вдруг упоённо кинулся разрушать собственное государство. Бытие тут ни при чем — это извращалось сознание, господа, оно-то в конечном итоге все и определило. Небольшой, легко исправляемый экономический перекос при идеологическом кризисе привел к распаду державы. Что же говорить о неустраняемых экономических противоречиях при абсолютном идеологическом тупике? К чему он должен был привести?
В последние предреволюционные годы Россия вдруг оказалась без идеологии. Нет, основная масса населения спокойно, привычно и некритически держалась за освященную веками триаду: «За Веру, Царя и Отечество», как сто лет спустя держалась за коммунистическую доктрину. Основная масса и вообще-то живет по принципу «от добра добра не ищут». Но в реальности оказалось, что дом давно уже стоит на песке, и стоило подуть ветру, как большинство населения радостными криками приветствовало свержение царя, оно же абсолютно индифферентно или сочувственно отнеслось к преследованиям Церкви — только при этом условии большевики смогли, да и посмели бы развернуть их. Ну а Отечество очень скоро стало умещаться в своей деревне, а то и еще проще: «Где хорошо — там и родина».
Когда идеология живая, работающая, принимаемая населением как свое кровное дело, тогда испытания ее только укрепляют, как то было в 1612-м или в 1941 году. Но если она пережила самое себя, то получается точно по Евангелию: дом, построенный на песке, не смог пережить бурю, «и было падение его великое».
В первую очередь за превращение гранита в песок спасибо надо сказать все тому же Петру, вбросившему в Россию западные порядки. Основная благодарность, конечно же, за Церковь. Московское государство было устроено по-умному, и в числе прочих добрых устроений в нем существовала страховка на случай кризиса власти. Если на престоле вдруг не оказывалось царя, на его место заступал Патриарх. Конечно, главы церковной и светской власти не всегда жили дружно, всякое бывало… но до Петра русские цари с головою дружили — карали неугодных архиереев, однако не покушались на принципы церковного управления, не рушили опоры собственного трона. Петр же в какой-то момент своей многотрудной борьбы за то, чтобы Россия была ну точь-в-точь как Европа, со всеми её закидонами, не сошелся во мнениях с Православной Церковью. И поступил по-петровски, попросту упразднив Патриарха — чтобы не мешал, а Церковь отдал во власть Святейшего Синода. Очень скоро сей орган стал, по сути, «министерством благочестия», подчинявшимся царю на тех же условиях, что и прочие министерства. Вице-президент Синода архиепископ Феофан Прокопович открытым текстом говорил, что Церковь должна «споспешествовать всему, что к его царского величества верной службе и пользе во всяких случаях касаться может». В результате Церковь из самостоятельной силы стала крепостной рабыней, обязанной жить не по своей совести, а как хозяин велит.
Нет, далеко не все церковные иерархи были недовольны сложившимся положением, скорее наоборот. Рабство имеет и выгодные стороны — например, гарантированное содержание. Империя не держала свою идеологическую рабыню в черном теле, отнюдь — что-что, а содержание было богатым, жаловаться не приходилось. Но ведь Христос, кажется, создавал Церковь Свою несколько для другого…
То, что стало с Церковью в результате установления «симфонии властей» [111], обрисовал протоиерей Александр Шмеман в своей книге «Исторический путь Православия». Правда, сия фраза относится к Византийской церкви, но русская оказалась в начале XX века точно в той же ситуации и с такими же последствиями — даже еще худшими, ибо у России есть такое свойство: она «раздевает» любую идею до абсолютной наготы.
«Трагедия Византийской Церкви, — пишет протоиерей Александр Шмеман, — в том как раз и состоит, что она стала только Византийской Церковью, слила себя с Империей не столько административно, сколько психологически. Для нее самой Империя стала абсолютной и высшей ценностью, бесспорной, неприкосновенной, самоочевидной. Византийские иерархи (как позднее и русские) просто неспособны уже выйти из этих категорий священного царства, оценить его из животворящей свободы Евангелия. Всё стало священно и этой священностью все оправдано. На грех и зло надо закрыть глаза — это ведь от „человеческой слабости“. Но остается тяжелая парча сакральных символов, превращающая всю жизнь в священнодействие, убаюкивающая, золотящая саму совесть… Максимализм теории трагическим образом приводит к минимализму нравственности. На смертном одре все грехи императора покроет черная монашеская мантия. Протест совести найдет свое утоление в ритуальных словах покаяния, в литургическом исповедании нечистоты, в поклонах и метаниях, всё — даже раскаяние, даже обличение имеет свой „чин“ — и под этим златотканым покровом христианского мира, застывшего в каком-то неподвижном церемониале, уже не остается места простому, голому, неподкупно-трезвому суду простейшей в мире книги… „Где сокровище ваше, там и сердце ваше“» [112].