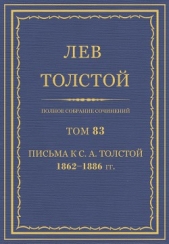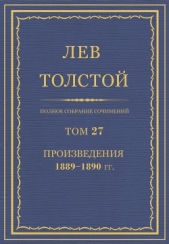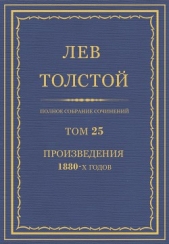Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910-1930-е годы

Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910-1930-е годы читать книгу онлайн
В книге публикуются воспоминания крестьян-толстовцев, которые строили свою жизнь по духовным заветам великого русского писателя. Ярким, самобытным языком рассказывают они о создании толстовских коммун, их жизни трагической гибели. Авторы этой книги — В. В. Янов, Е. Ф. Шершенева, Б. В. Мазурин, Д. Е. Моргачев, Я. Д. и И. Я. Драгуновские — являют собой пример народной стойкости, мужества в борьбе за духовные ценности, за право жить по совести, которое они считают главным в человеческой жизни. Судьба их трагична и высока. Главный смысл этой книги — в ее мощном духовном потенциале, в постановке нравственных, морально-этических проблем.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Евдокия Павленко растерзана немцами как партизан.
Очень хотел переселиться к нам, в коммуну, Борис Непомнящий, и даже приезжал к нам, в Сибирь, но его жена никак не хотела ехать в коммуну, и вся семья погибла в Одессе как евреи.
Эпидемия уничтожения невинных людей не была принадлежностью или изобретением какой-нибудь одной страны. Она широко разлилась по всему миру, стило быть, и причины ее не узкоместные, а гораздо шире.
Причина была в том, что понимание людьми смысла жизни, их религия были порочны, не верны, не соответствовали основному закону человеческой жизни добру.
Отказывается в фашистской Италии молодой человек брать оружие в руки против абиссинцев — карают, отказывается в царской России — карают, отказывается у нас, в Советском Союзе, — карают, отказывается в «свободной» Америке — карают.
Страны разные, социальные системы разные, а отношение к людям, признавшим для себя нравственно невозможным убивать людей, одинаковое, и слова-то везде одинаковые: «Изменник родины».
Бедная, дорогая ты моя родина! Чего только твоим именем не делается!
Я говорю об этом здесь и упрекаю себя: зачем говорю? Ведь все это гораздо яснее, полнее, глубже много раз высказано у Толстого, но ведь беда-то в том, что его не знают. От его произведений, где он говорит о смысле человеческой жизни, об общественном устройстве, где он критикует современные церковные религии, науки, искусства, — народ всячески оберегают.
1937 и 1938 годы коммуна уже не могла жить полной жизнью: слишком многих своих членов она потеряла. Люди еще крепились, оставались сами собою, но коммуна уже доживала свои последние дни. Взяли и осудили последнего председателя совета коммуны Петра Ивановича Литвинова и члена совета Леву Алексеева, и, наконец, 1 января 1939 года коммуна была переведена на устав сельскохозяйственной артели — колхоз. Грустные расходились люди с этого собрания, как будто потеряли они что-то большое и дорогое.
Сережа Юдин тогда сказал:
— Коммуны больше нет, теперь каждый может поступать кто как хочет…
Распределили дома, распределили часть скота — кому телку, кому корову на два хозяйства, кому выделили определенную сумму денег.
Люди за долгие годы жизни в коммуне уже отвыкли от таких понятий, как «мой дом», «моя корова», и т. д.; все было «наше». Люди уже сильно впитали в себя коммунистические, не частнособственнические чувства, люди привыкли работать не по найму, не за зарплату, а по сознательному отношению к труду, как необходимому и радостному условию человеческой жизни. И вот теперь новым уставом они опять были отброшены назад, к старому, с которым когда-то добровольно и сознательно решили порвать.
Зачем это?
С юных дней своей сознательной жизни выписал я из газеты «Коммунистический субботник» от одиннадцатого апреля 1920 года и храню до сих пор пришедшиеся мне по сердцу слова В. И. Ленина о коммунистическом труде. Вот они:
«Коммунистический труд в более узком и строгом смысле слова есть бесплатный труд на пользу общества, труд, производимый не для отбытия определенной повинности, не для получения права на известные продукты, не по заранее установленным и узаконенным нормам, а труд добровольный, труд вне нормы, труд, даваемый без расчета на вознаграждение, без условия о вознаграждении, труд по привычке трудиться на общую пользу и по сознательному (перешедшему в привычку) отношению к необходимости труда на общую пользу, труд как потребность здорового организма».
За долгие годы жизни в коммуне мы познали возможность и радость такого труда; теперь этого нас лишали насильно.
И, как это ни странно, эта привычка к коммунистическому труду перешла, в частности со мной, и в, казалось бы, совсем неподходящее место — в заключение, в лагеря, где труд — под штыком.
Иногда забывалось все и работалось легко и с увлечением.
Мы грузили баржи круглым лесом. Работа трудная, тяжелая — нянчить целый день тяжелые бревна, при голодном желудке, но мы работали весело, отдавая все силы. Здесь мне невольно вспоминается «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына — работа бригады каменщиков. Вспоминается и рассказ М. Горького о том, как шла разгрузка баржи артелью грузчиков.
Один сумрачный, всегда молчаливый жулик, не помню его по имени, однажды сказал, как будто бы ни к кому не обращаясь:
— Я люблю работать там, где работает Мазурин.
Это было мне самой большой наградой.
Петю Литвинова, Алексея Шипилова и Леву Алексеева осудили, как последних членов совета коммуны. Одним из предъявленных им обвинений была помощь «врагам народа», то есть тем коммунарам, которые были в заключении. Фаддея Заболотского направили по суду на принудительное лечение в тюремную психиатрическую больницу. Пете Литвинову и Леве Алексееву пришлось отбыть по десять лет заключения и по восьми лет ссылки в Красноярском крае.
Общественная и трудовая жизнь в колхозе «Жизнь и труд» стала переходить на другие рельсы. Стали вливаться в состав колхоза люди со стороны, совсем других убеждений. Вошли в обиход трудодни, нормы выработки и многое другое, чего мы в коммуне не знали.
Одна женщина, прожившая в коммуне более пятнадцати лет и привыкшая относиться к общественному хозяйству как к своему, работать добросовестно, как можно лучше, рассказывала мне:
— Пошли в колхозе мы, бабы, вязать рожь. Ну, вяжу я, как всегда раньше вязала — снопы большие, тугие, чисто, а на другой день смотрю: моя фамилия на черной доске, а другие бабы — на красной.
Потом я стала присматриваться, как работают те, кто на красной доске, и сама так стала, кое-как, лишь бы побыстрее да побольше, да и приврешь еще бригадиру, когда придет считать снопы, выработку. Гляжу, и моя фамилия появилась на красной доске!
И еще она рассказывала, как стали жить в колхозе:
— Стали мы все, бабы, ворами, вся жизнь стала на воровство. Мужиков нет, детей кормить, растить надо, общей столовой, как в коммуне было, нет, а на трудодень дадут по 200 граммов озадков, вот и живи! Ну, и тащишь все. Идешь с работы, тащишь картошку, свеклу, капусту, где что работаешь, да еще и ночью к кучам на огород сходишь. А корову тоже прокормить надо, она главная кормилица семьи. Целый день, с темна дотемна, на колхозной работе, а в «свободное» время и вари, и стирай, и корове коси. Ну, и будишь ночью своего мальчика и идешь по глубокому снегу на ток с саночками — озираешься, как вор, — мякины или соломы привезешь… Вот так и жили. Вот поэтому-то я и не хотела, чтобы дети в колхозе оставались, приучались к воровству, а я-то уж ладно — куда денешься?
Коммуны не стало. О чем же продолжать рассказ? Все? Кончать надо?
Нет! Были еще десятки верных, преданных ей членов, коммунаров без коммуны, разбросанных по лагерям и тюрьмам Сибири, осваивавших ее необжитые, суровые просторы, удобрявших ее своими костями.
Я бодро переносил заключение, все невзгоды и нелегкий труд в тайге. Уже срок перевалил на вторую половину и пошел вниз, уже зашевелилась н сердце надежда увидеть семью, родных, друзей, но из далекой Коми меня везут этапом опять в Сталинск. Зачем?
Провожая, лагерные друзья поздравляют:
— На пересуд!
— Освобождение…
Но они ошиблись. Я опять в строгой одиночке. И вот я в кабинете следователя — новый, незнакомый. На мой вопрос, зачем меня привезли, он сказал:
— Приговор отменен прокурором республики Рогинским.
— Почему?
— За мягкостью, — резко, озлобившись и с ударением сказал он.
Я понял все. Прощай надежды! Статья осталась та же — 58-я, но часть уже вторая, которая гласит «расстрел», «при особо смягчающих обстоятельствах не ниже…» и т. д. Появились пункты четырнадцатый и одиннадцатый. Четырнадцатый — саботаж государственных мероприятий, по этому пункту почти все проходили через смертную камеру, и пункт одиннадцатый групповой, что еще отягощало и без того тяжелые пункты.
— Теперь «вышка», — решил я. Кому-кому, а мне в первую голову.
Если бы такой приговор был сразу в 36-м году, мне было бы легче, а то — забрезжилась вдали свобода, и вдруг…