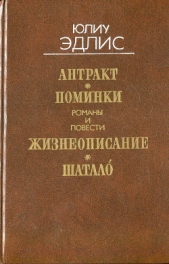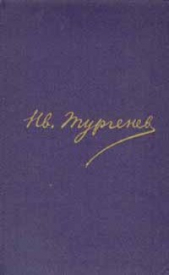Записки о Петербурге. Жизнеописание города со времени его основания до 40-х годов X X века

Записки о Петербурге. Жизнеописание города со времени его основания до 40-х годов X X века читать книгу онлайн
«Записки о Петербурге» Е. А. Игнатовой посвящены истории города - от его основания до 40-х годов XX века. Особый интерес представляет ранее не публиковавшаяся вторая книга, воссоздающая картину городской жизни с 1917 по 1940 г. (на материале архивных документов, редких мемуарных свидетельств, периодики тех лет).
Повествование «Записок о Петербурге» охватывает почти два с половиной столетия истории города. В первой книге, посвященной периоду от основания Петербурга до двадцатых годов XX века, рассказывается о том, что объединяло разные поколения горожан, о замечательных трагических, а порой и странных событиях, о судьбах петербуржцев, прославленных и безвестных. В свидетельствах людей разных эпох искались подробности, сохранявшие атмосферу, воздух времени, благодаря которым по-иному увиделись петровские празднества в Летнем саду, или Дворцовая площадь в день екатерининского переворота 1762 года, или Сенатская 14 декабря 1825-го. Жизнь Петербурга — мастерской, в которой выковывалось будущее государства, поражает разнообразием и завершенностью сюжетов. Одни из них читаются как притчи, другие кажутся невероятными вымыслами, и все они составляют историю «самого отвлеченного и самого умышленного города», как назвал его Достоевский. Первая книга завершается рассказом о переменах, после которых город утратил положение столицы России, вторая посвящена его жизни в 20–30х годах XX века. В основу книги положены устные воспоминания людей старших поколений, дневники, письма, мемуары, литература, пресса того времени, и благодаря разнородности материалов прошлое начинает приобретать объем и напряжение реальной жизни. В этом времени слишком много болевых точек, оно еще не остыло, и описать его во всей полноте предстоит будущим историкам. «Записки о Петербурге» — книга о любви к странному, прекрасному городу и к замечательным людям, присутствие которых наполняло его жизнь духовным смыслом и во многом определяло его судьбу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Льстецы, которые есть во все времена, превозносили и сравнивали правление каждого нового императора с правлением Петра Великого. Так было и в николаевскую эпоху. И действительно, кое-что в жизни города напоминало былые времена, но, так сказать, с противоположной направленностью. Если Петр I стремился многое заимствовать из Европы, то идеология николаевского правительства противопоставляла «растленной революционной Европе» сохраняющую монархические традиции Россию.
Так же, как в старые времена, на Конной площади стоял эшафот. В тюрьмах клеймили каторжников и бродяг, но уже не по старинке, а с помощью «механической машинки». Сам облик города разительно изменился, казалось бы, от незначительной вещи: было велено выпалывать траву между булыжниками на улицах, площадях, во дворах государственных учреждений. Аллеи деревьев, посаженные при Павле I на Невском проспекте, вырубили.
Почти исчезли частные сады, которых прежде было множество. И Петербург снова стал казаться городом торжествующего камня, холодного и жестокого.
Так же, как Петр I требовал от придворных переодевания в европейскую одежду, Николай I пожелал, чтобы дамы являлись на балы во дворец в русских костюмах, эскизы которых были разработаны под его началом. Как напоминает указ 1840 года знаменитые петровские указы об ассамблеях! «Их Императорское Величество заметить изволили, что многие из дам, вопреки описаниям рисунков русской одежды для приезда ко двору, позволяют себе изменить их. Наистрожайше воспрещается отступать от утвержденной формы национального костюма, который не должен подлежать перемене иностранных мод...»
Этот указ придворным модницам был доставлен полицейскими чинами на дом, и после того как дама читала его и расписывалась, бумаги с подписями пересылались обер-полицмейстеру Петербурга. Такого город не помнил лет сто. Кажется, время повернуло вспять, перенеслось на сто лет назад... или на сто лет вперед. В 40—50-е годы XX века, в сталинские времена, царила та же «мундиромания». И сама идеология эпохи зиждилась на противопоставлении России и Запада, только определения сторон изменились: Россия стала «революционной», а Европа — «консервативной».
В 1848 году, получив известие о революции во Франции, Николай I направился во дворец наследника. Там был бал, и, войдя в круг танцующих, император возгласил: «Седлайте коней, господа, во Франции объявлена республика!» Правда, по здравом размышлении до сед-лания коней дело не дошло, но эта история напоминает нам недавнее прошлое.
Мундиры в николаевском Петербурге носили не только военные, но и чиновники, студенты, служащие различных ведомств. Император позаботился даже о наряде для кормилиц и нянюшек в дворянских домах: они носили «высочайше одобренный русский национальный костюм».
В сентябре 1826 года А. С. Пушкина вдруг вызвали из Михайловского, из ссылки, в Москву, где император Николай находился на коронационных торжествах. «Он был привезен прямо в Кремлевский дворец и представлен императору. Никто не может сказать, что говорил ему августейший его благодетель, но можно вывести положительное заключение о том из слов самого государя императора, когда, вышедши из кабинета с Пушкиным, после разговора наедине, он сказал окружавшим его особам: „Господа, это Пушкин мой!“» — вспоминал в своих «Записках» К. А. Полевой.
«Августейший благодетель» не обделил вниманием великого поэта, он стал цензором сочинений Пушкина. А 1 января 1834 года Пушкин записал в дневнике: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам)... Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством. Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным, а по мне хоть в камер-пажи».
Однако поэт принял это пожалование отнюдь не так спокойно, как можно представить по записи в дневнике. «...Друзья, Вильегорский и Жуковский, должны были обливать холодной водою нового камер-юнкера: до того он был взволнован этим пожалованием! Если б не они, он, будучи вне себя, разгоревшись, с пылающим лицом, хотел идти во дворец и наговорить грубостей самому царю. Впоследствии... он убедился, что царь не хотел его обидеть, и успокоился», — читаем мы в «Рассказах о Пушкине» П. В. и В. А. Нащокиных. Теперь и знаменитый поэт должен был обзавестись придворным мундиром, чтобы являться в нем в царский дворец. Однако Николай дал ему некоторую поблажку, о которой Пушкин говорил друзьям: «Мне... дорого то, что на всех балах один царь да я ходим в сапогах, тогда как старики вельможи в лентах и в мундирах». Невеселое, однако, утешение.
Одни люди с репутацией былых вольнодумцев должны были надеть мундир, а некоторым пришлось поменять службу и форму. Леонтий Васильевич Дубельт — человек с биографией, схожей с биографиями многих членов
тайных обществ: участник войны 1812 года, ранен в сражении под Бородино; входил в масонское общество. У него была репутация отъявленного вольнодумца, «одного из главных говорунов Второй армии». В начале 1826 года подполковника Дубельта арестовали по подозрению в участии в Южном обществе декабристов, но освободили за недостаточностью улик. Однако его военная карьера закончилась — теперь в армии «говорунов» не терпели. В 1828 году Дубельт вынужден был уйти в отставку и начал карьеру в корпусе жандармов. В этой сфере он преуспел: в 1835 году стал начальником штаба корпуса жандармов, в 1839—1856 годах одновременно с этим был главой Третьего отделения. О нем Николай I мог с полным правом сказать: «Вот Дубельт мой».
От прежнего вольномыслия у главы политического надзора осталось лишь циническое презрение к тем, чьими услугами он пользовался, и к тем, кто трепетал перед его властью. Соглядатаям, платным осведомителям и доносчикам Третье отделение при нем платило суммы, кратные тридцати: «Получай, голубчик, свои тридцать сребреников». «Дубельт — лицо оригинальное, он наверно умнее всего Третьего и всех трех отделений собственной канцелярии. Исхудалое лицо его... усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил, или лучше, накрыл все, что там было. Черты его имели что-то волчье и даже лисье, то есть выражали тонкую смышленость хищных зверей, вместе уклончивость и заносчивость. Он был всегда учтив», — писал А. И. Герцен в «Былом и думах». Он приводил примеры этой учтивости, иногда полной тонкой издевки: «...кавалерийский генерал, бывший в особой милости Николая, потому что отличился 14 декабря офицером, приехал к Дубельту со следующим вопросом: „Умирающая мать, — говорил он, — написала несколько слов на прощанье сыну Ивану (его брат И. Г. Головин с 1844 года был эмигрантом. — Е. И.)... тому... несчастному... Вот письмо... Я, право, не знаю, что мне делать?“ „Снести на почту”, — сказал, любезно улыбаясь, Дубельт».
Дубельту, не чуждому интереса к литературе, водившему дружбу с В. А. Жуковским, принадлежит следующее суждение: «Всякий писатель есть медведь, которого следует держать на цепи и ни под каким видом с цепи не спускать, а то сейчас укусит!»
В 1827 году Пушкин впервые после ссылки приехал в Петербург. Как изменилась литературная жизнь столицы за эти семь лет! «На литературных вечерах Дельвига никогда не говорили о политике, потому что большая часть общества была занята литературой и потому что катастрофа 14 декабря была еще очень памятна. Размножившиеся жандармы и шпионы Третьего отделения, в числе которых были литераторы, не давали о ней забыть...
Печатание вообще, а периодического издания в особенности, еще более затруднялось тогдашними цензурными правилами, по которым не пропускались многие слова, между прочими: республика, мятежники, о чем не сообщалось журналистам, а только цензорам... Было время, что цензоры не пропускали слов: бог, ангел с большими первоначальными буквами», — вспоминал А. И. Дельвиг, двоюродный брат поэта А. А. Дельвига.
Изменилась жизнь общества и молодежи, выросшей в эти годы. Пушкин и его друзья кажутся людьми другой эпохи, хотя разница в возрасте между ними немногим больше десяти лет. «Для нашего поколения, воспитывавшегося в царствование Николая Павловича, выходки Пушкина уже казались дикими. Пушкин и его друзья, воспитанные во время наполеоновских войн, под влиянием героического разгула представителей той эпохи, щеголяли воинским удальством и каким-то презрением к требованиям гражданского строя... Пушкин как будто дорожил последними отголосками беззаветного удальства, видя в них последние проявления заживо схороняемой самобытной жизни» (П. П. Вяземский. «Александр Сергеевич Пушкин. 1826 — 1837»).