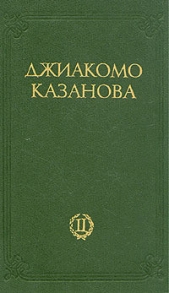Мемуары

Мемуары читать книгу онлайн
Бурная, полная приключений жизнь Джованни Джакомо Казановы (1725–1798) послужила основой для многих произведений литературы и искусства. Но полнее и ярче всех рассказал о себе сам Казанова. Его многотомные «Мемуары», вместившие в себя почти всю жизнь героя — от бесчисленных любовных похождений до встреч с великими мира сего — Вольтером, Екатериной II неоднократно издавались на разных языках мира.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тем временем примадонна приготовилась начать новую арию. Казанова, уже приглашенный обвороженными его светским разговором кавалерами, уже милостиво позванный к утреннему приему фаворитки, возвращается, после глубокого поклона, на свое место, садится и, опираясь левой рукой на шпагу, склоняет красивую голову, чтобы, как знаток, слушать пение. За его спиной, из ложи в ложу, из уст в уста, шепотом несутся любопытный вопрос и ответ: «Шевалье де Сейнгаль!». Подробностей о нем не знает никто, — ни откуда он пришел, ни чем он занимается, ни куда направляется; но имя его жужжит и гудит по всему темному и любопытному залу, забрасывается, танцуя, как невидимое, мелькающее пламя, наверх на сцену, к охваченным таким же любопытством певицам. И вдруг маленькая венецианская танцовщица заливается смехом: «Шевалье де Сейнгаль? Ах, этот обманщик! Да ведь это же Казанова, сын Буранеллы, маленький аббат, который пять лет тому назад ловко украл девственность у моей сестры, придворный шут старика Брагадина, хвастун, дрянчуга и авантюрист!» Но она, по-видимому, не слишком возмущена его проделками, ибо из-за кулис она подмигивает ему, как старому знакомому, и многозначительно подносит кончики пальцев к губам. Он замечает это, узнает ее, улыбается и быстро соображает, что она не испортит ему игры со знатными дураками, а предпочтет поспать с ним сегодня ночью.
Последние дни старого авантюриста
Все изменилось теперь, увы! — и я не присутствую, сам я уже не тот и не думаю, что еще существую: я — был.
(Латинская надпись на портрете Казаковы в старости).
1797–1798 год. Кровавая метла революции вымела вон галантный век, головы христианнейшего короля и королевы лежат в корзине гильотины, и десять дюжин принцев и князьков, совместно с венецианскими инквизиторами, прогнаны к черту маленьким корсиканским генералом. Европа читает уже не «Энциклопедию», Вольтера и Руссо, а отрывистые бюллетени с театра военных действий, не слушает больше итальянских арий, а трепещет перед пушками. Великий Пост навис над Европой, — карнавалам и рококо наступил конец, нет больше кринолинов и пудреных париков, серебряных пряжек на туфлях и брюссельских кружев; никто не носит больше бархатного платья — оно сменилось мундиром и бюргерской одеждой. Но, странно, — кто-то забыл о времени. Это какой-то престарелый человечек там, на севере, в самом темном закоулке Богемии. Как рыцарь Глюк в легенде Гофмана, как какая-то цветистая птица, старик в бархатном жилете с позолоченными пуговицами, в вылинявшем и пожелтевшем кружевном воротнике, шелковых чулках с узорчатыми подвязками и в парадной шляпе с белым пером, спускается тяжелой поступью среди белого дня из замка Дукс по неровной булыжной мостовой в город. По старому обычаю смешной старик еще носит косу, хотя она и напудрена плохо (нет больше лакеев!), а дрожащая рука важно опирается на старомодную трость с золотым набалдашником, какие носили при королевском дворе в лето
1730… Да, это Казанова или, вернее, его мумия, он все еще жив, этот старый авантюрист, несмотря на нужду, заботы и сифилис. Кожа стала пергаментной, крючковатый нос выступает, как птичий клюв, над дрожащим, слюнявым ртом, густые брови поседели и стали щетинистыми; все это дышит уже затхлым запахом старости и тления, высыханием в желчи и книжной пыли. В одних только глазах, черных, как смола, еще живет былое беспокойство, остро и зло выглядывают они из-под полузакрытых век. Но он недолго смотрит по сторонам, он только сердито брюзжит и ворчит про себя, ибо находится в дурном настроении. Да, Казанова никогда уже не бывает в духе с тех пор, как судьба выбросила его на эту богемскую свалку. К чему поднимать глаза- каждый взгляд был бы слишком большой честью для этих глупых ротозеев, этих широконосых немецко-богемских картофельных рож, которые никогда не высовывают носа дальше деревенской грязи и даже не выполняют своего долга приветствовать его, шевалье де Сейнгаля, который в свое время всадил пулю в живот польскому гофмаршалу и получил из собственных рук папы римского Золотые Шпоры. Но еще досаднее то, что и женщины уже не уважают его больше, а прикрывают руками рот, чтобы сдержать раскаты громкого деревенского хохота. И им есть над чем посмеяться, ибо служанки рассказали попу, что старый греховодник охотно залезает им рукой под юбки и на своем тарабарском языке шепчет в уши всякие глупости. Но все же, эта чернь все-таки лучше, чем проклятая лакейская сволочь, на произвол которой он отдан дома, эти «ослы, пинки которых он вынужден переносить», — и больше всего — от домоправителя Фельткирхиера и его присного Видерхольта. Канальи! Вчера они опять нарочно пересолили ему суп и сожгли макароны, они вырвали его портрет из изокамерона и повесили его в отхожем месте, они осмелились, эти негодяи, поколотить маленькую собачку с черными пятнами, Мелампигу, подаренную ему графиней Роггендорф, только за то, что прелестный зверек отправил естественную потребность в комнатах. Ах, куда удалились те золотые времена, когда можно было просто посадить в колодки подобную лакейскую сволочь и переломать ей ребра вместо того, чтобы терпеть подобную наглость! Но нынче из-за этого Робеспьера хамье подняло голову, проклятые якобинцы изгадили всю эпоху, и сам ты уже только старый, бедный беззубый пес. Что толку сетовать, ворчать и брюзжать целый день, лучше всего наплевать на весь этот сброд, подняться наверх, в свою комнату, и читать Горация.
Но сегодня нет места всем этим печальным размышлениям, — мумия торопливо бегает по комнатам, как подергиваемая марионетка. Она облеклась в старое придворное платье, прицепила орден и хорошенько почистилась щеткой, чтобы удалить малейшую пылинку. Ибо господин граф дали знать, что приедут сегодня, их милость своей персоной прибудут из Теплица и привезут с собой принца де Линя и еще несколько благородных господ; за столом они будут беседовать по-французски, и завистливая лакейская банда, скрежеща зубами, должна будет прислуживать, подавать ему тарелки, сгибаясь в три погибели, а не швырять ему на стол, как вчера, перепорченные и изгаженные объедки, как бросают кость собаке. Да, сегодня, во время обеда он будет сидеть за большим столом вместе с австрийскими кавалерами, умеющими еще ценить утонченный разговор, и почтительно слушать философа, которого изволил уважать сам Вольтер и которого когда-то удостаивали своего внимания императоры и короли. «А как только дамы удалятся, господин граф и господин принц, вероятно, самолично попросят меня прочесть им что-нибудь из известного манускрипта, да, попросят, господин Фельткирхнер, поганая рожа вы этакая, высокорожденный господин граф Вальдштейн и господин фельдмаршал принц де Линь будут просить меня, чтобы я опять прочел им отрывок из моих любопытнейших приключений… И я это, может быть, и сделаю — может быть ибо я ведь не слуга господина графа и не обязан слушаться его, я не принадлежу к лакейскому сброду, я — гость и библиотекарь и стою с ними на равной ноге, — ну, да вы ничего этого не понимаете, якобинская сволочь!.. Но парочку анекдотов я все же им расскажу, черт возьми! Парочку анекдотов в восхитительном жанре моего учителя, господина Кребильона, или парочку венецианских — с перцем и солью; ведь мы, дворяне, будем между собой и мы хорошо разбираемся в оттенках. Они будут смеяться и пить черноватое крепкое бургундское вино, как при дворе Его христианнейшего Величества, будут беседовать о войне, алхимии и книгах, а прежде всего — слушать рассказы старого философа о светских делах и о женщинах». Возбужденно шмыгает по отпертым залам маленькая, старая, высохшая злая птица, с глазами, ссеркающими злобой и отвагой. Вытирает обрамляющие орденский крест стразы (настоящие камни уже давно проданы английскому жиду), тщательно пудрит волосы и упражняется перед зеркалом (с этими невежами забудешь всякие манеры!) в старомодных реверансах и поклонах, какие были приняты при дворе Людовика XV. Правда, спина уже порядочно хрустит: не безнаказанно тряслась старая тачка семьдесят три года во всех почтовых каретах вдоль и поперек Европы, а женщины стоили ему бог знает сколько силы! Но там, наверху, в башке — там, по крайней мере, еще не испарилось остроумие, он еще сумеет позабавить этих господ и придать себе весу в их глазах. Круглым и замысловатым, немного дрожащим почерком переписывает он на чуть-чуть шершавом листе дорогой бумаги приветственные стишки на французском языке для принцессы де Рекке и разрисовывает буквы высокопарного посвящения на своей новой комедии для любительского театра: «Да, даже здесь, в Дуксе, мы еще не разучились держать себя подобающим образом!» И, действительно, когда, наконец, подкатывают кареты, и он, сгорбившись, сходит вниз по крутым ступеням, тяжело ступая своими скрюченными ногами, — господин граф и его гости небрежно бросают слугам шапки, плащи и шубы, но его они обнимают по дворянскому обычаю, представляют незнакомым господам в качестве прославленного шевалье де Сейнгаля, превознося его литературные заслуги, и дамы польщены видеть его рядом с собой за столом.