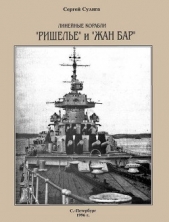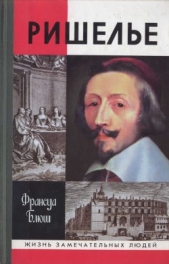Исторические портреты

Исторические портреты читать книгу онлайн
Марк Алданов (1886-1957) - блестящий русский писатель-историк ХХ века - родился в Киеве, в 1919 году эмигрировал во Францию. После начала Второй мировой войны поселился в Америке. Именно в "американский" период Алданов обратился к жанру исторического портрета, создав произведения, непревзойденные по достоверности (писатель много времени провел в архивах) и глубине осмысления жизни великих людей прошлого и настоящего. Временной охват чрезвычайно широк - от Марата и Робеспьера и императрицы Жозефины до Гитлера и Сталина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
О моральных качествах Давида говорить, к сожалению, не приходится. В нашумевшем столкновении с жирондистами он требовал, чтобы они непременно его убили: «Je vous demande que vous m'assassiniez!» Накануне 9 термидора обещал «выпить цикуту с Робеспьером». Никто его не убивал, и цикуты он не выпил — Давид любил цикуту только на картинах. Через несколько дней после переворота он сам объяснял в Конвенте, что 9 термидора у него расстроился желудок, что он должен был принять слабительное и решительно ничего ни о чем не знает: «Этот несчастный (то есть Робеспьер) меня обманул».
Вся политическая деятельность Давида была сплошным курьезом. О его отношениях с Наполеоном можно было бы написать забавную книгу. Он все желал писать императора скачущим на коне, с поднятым мечом в руке. Наполеон указывал, что это было бы не вполне точно: главнокомандующий никогда в кавалерийских атаках не участвует. Компромиссом был «Переход через Сен-Бернар», где Наполеон изображен без поднятого меча, но тоже не в очень реалистическом стиле. Писал Давид императора много раз, и неприятности выходили неизменно. В «Раздаче орлов» между фигурами Евгения Богарне и Гортензии режет глаз странная пустота, непонятная при необыкновенном композиционном искусстве Давида. Объясняется она тем, что пока художник, составив отличный план, писал заказанную ему картину, Наполеон развелся с Жозефиной: Давид счел необходимым убрать с полотна фигуру опальной императрицы. Со всем тем, продажным человеком, в настоящем смысле слова, Давид не был. Он просто был «впечатлителен», и так как вдобавок ничего ни в чем, кроме искусства, не понимал, а власть, влияние, почет любил чрезвычайно, то более или менее искренно восхищался поочередно всеми высокопоставленными или влиятельными людьми: восхищался Маратом, восхищался Робеспьером, восхищался первым консулом, восхищался императором, непременно восхитился бы и Людовиком XVIII, если бы это оказалось возможным для бывшего «режисида» {56}. Я не сомневаюсь, что, случайно очутившись по воле судеб в Кобленце, Давид с не меньшим жаром писал бы контрреволюционные картины. Вместо Марата он мог бы столь же благоговейно изобразить Шарлотту Корде и надпись «Марату — Давид» заменилась бы надписью «Шарлотте — Давид».
Учеников у него было в те времена много: человек пятьдесят или шестьдесят. Были среди них и взрослые, но преобладали мальчики и девочки 14—18 лет: он неохотно принимал взрослых, «уже испорченных академией». Брал Давид с учеников всего по 12 франков в месяц — это доказывает, что руководился он не соображениями выгоды, а только любовью к искусству. Кроме того, ученики обязаны были, подметать полы, топить печь и т.д. Сам он, занятый государственными делами, проводил в мастерской мало времени. Молодежь очень его любила, очень боялась и благоговела перед ним, но, по-видимому, не скучала и без него. В мастерской было очень весело. Учились как могли, копировали Давида, писали свое.
Часов в двенадцать дня стоявший в коридоре на часах ученик прибегал с вестью: «Давид идет!» Все мгновенно подтягивались. Художник появлялся с трехцветной кокардой на шляпе (небрежное: «прямо из Конвента» или «засиделся у гражданина Робеспьера») и обходил учеников, осматривая их работы. Если бывал доволен, хвалил. Другим говорил: «ты сапожник» или «ты академик» (это у Давида означало приблизительно одно и то же). Иногда хватал кисть и поправлял: «Разве это нога? Где ты видел такую ногу?» Иногда в ярости советовал ученику или ученице заняться чем-либо другим, например торговлей или музыкой: «Может быть, у тебя музыкальный талант? Может быть, ты затмишь Глюка? Но зачем тебе заниматься живописью? Нет, я не хочу разорять твоих родителей и брать с них даром по двенадцать ливров в месяц!» Выгонял он редко, в восторге бывал еще реже. Особенно талантливых учеников у него тогда не было. Однако двумя годами позднее в школе появился неуклюжий, застенчивый, серьезный 16-летний мальчик, говоривший с южным акцентом, желавший стать скрипачом, но немного поучившийся в Монтобане и живописи, преимущественно дома, у отца. При очередном обходе мастерской Давид остановился перед его полотном, посмотрел, ничего не сказал, посмотрел опять и спросил: «Как твоя фамилия? Энгр? Ты будешь мне помогать...»
Иногда ученики устраивали обед в честь учителя. Деньги собирались вскладчину, давали кто сколько может. Во главе с Давидом вся компания отправлялась в Венсен или в Клу пешком: так веселее и незачем тратиться на извозчиков. Обед тоже бывал скромный: и денег у молодежи было немного, и простота нравов ценилась. Давид, вероятно, рассказывал о добродетельном Робеспьере, о незабвенном Марате. Но едва ли молодежь интересовалась политикой. Общее чувство у этих юношей и девушек, вышедших в большинстве из буржуазии или из народа, было все то же: кончилось время дворянских привилегий, стали людьми и мы, теперь перед нами жизнь!
V
Литературным образованием Зигетт ведал, как уже было сказано, Пиндар-Лебрен. Он в ту пору считался замечательным поэтом; да и теперь еще его имя можно найти в больших трудах по истории французской литературы. Человек он был странный. В одном из своих стихотворений он себя называет эпикурейцем: «Своим темным путем Зенон пугает меня — Сын Эпикура, — Я стремлюсь к счастью. Веселая ласточка порхает в Зефире, А моя душа верна неясным удовольствиям...» Однако столь мрачного эпикурейца свет, вероятно, никогда не видал.
Жизнь Лебрена сложилась неудачно. Наследственного состояния он, вероятно, никогда не имел. Стихами жить было во все времена трудно, — Пушкин получал, конечно, за стихи немалые деньги, Байрон — огромные, но Пушкины и Байроны и в этом отношении составляют исключение. Лебрен не мог существовать без службы. Старый строй принял его довольно благожелательно. Поэт проделал не без успеха ту скромную карьеру, которая тогда была возможна для человека небогатого и в дворянстве не рожденного. Служил секретарем у принца Конти, позднее получал небольшую пенсию от короля и в знак благодарности писал оды в честь высоких особ. Появились у него и сбережения. Они погибли при знаменитом банкротстве князя Роган-Гемене, сыгравшем немалую роль в деле подготовки революции. Легкомысленный князь оставил неоплатный долг в тридцать с лишним миллионов — были среди них и восемнадцать тысяч Лебрена, все его состояние.
Худо сложились и «нежные удовольствия». Жена сбежала от поэта, как говорили, к высокой особе.
«Сын Эпикура» всегда недолюбливал жизнь. Теперь он совершенно ее возненавидел. Лебрен примкнул к крайнему течению революции. Впрочем, примкнул чисто теоретически. Настоящей политикой он не занимался, но писал кровожадные оды, смешивая с грязью людей, в честь которых еще весьма недавно писал оды хвалебные. Сочинял он позднее стихи и в честь генерала Бонапарта, причем гарантировал его республиканские чувства: «Счастливец Бонапарт слишком велик, чтобы снизойти до королевского трона...» Бонапарт не оправдал этих надежд, зато пожаловал поэту орден Почетного легиона. И не раз награждал его деньгами. Якобинские чувства Лебрена очень смягчились.
Биография довольно обычная для людей той эпохи.
Моральные качества наставника Зигетт находятся под некоторым сомнением. Но меняли тогда взгляды в зависимости от того, куда дул ветер, и люди вполне порядочные. Можно было бы даже сказать, что не изменило в ту пору взглядов лишь весьма незначительное меньшинство людей. Причины? Первая, вероятно, человеческая стадность, общая коллективная порука, устанавливающаяся в таких случаях в охваченной пожаром стране: надо жить, все так поступают, значит, никто осудить не может, что ж я один буду валять дурака? Вторая причина была патриотическая: плыть по течению необходимо, чтобы спасти Францию — как-нибудь продержимся и спасем.
Огромное, подавляющее большинство французов не сочувствовали террору и ненавидели Робеспьера. Но столь же огромное их большинство помнили, что революция «сделала их людьми», уничтожив дворянские привилегии и открыв перед всеми дорогу ко всему. Узнавая, что сын конюха стал главнокомандующим армией, а сын крестьянина — послом, «средний француз» закрывал глаза даже на террор, хоть всей душой желал его прекращения. В письме какого-то деревенского врача той эпохи мне попалась фраза (цитирую на память): «Мне жаль герцогов, отправленных на эшафот. Жаль и тех, которые бедствуют за границей. Но о герцогских привилегиях я нисколько не скорблю. Если эти бывшие хотят жить с нами, пусть живут, как я. Я ничем не хуже их...»