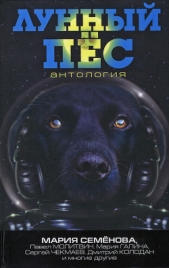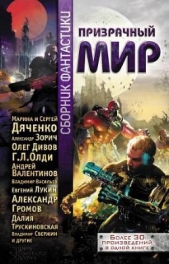Товарищ Павлик: Взлет и падение советского мальчика-героя

Товарищ Павлик: Взлет и падение советского мальчика-героя читать книгу онлайн
Мало кто из детей-героев в мировой истории сумел приобрести столь скверную репутацию, как Павлик Морозов. Между тем все материалы о жизни этого героя подлежат сомнению, включая официальное «Дело об убийстве братьев Морозовых», составленное ОГПУ. Не исключено, что не было даже знаменитого доноса на отца, причины же убийства Павлика и его брата Феди носили скорее бытовой, а не политический характер. Одна из основных задач этой книги — вписать фигуру Павлика Морозова в контекст исторического процесса, в частности в историю коллективизации уральской деревни начала 1930-х годов. Рассмотрение эволюции легенды о его «подвиге» с сентября 1932-го и до конца 1980-х помогает составить представление о том, как создавались культы советских героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По мере того как миф о Павлике приспосабливался к распространившейся в середине 1930-х годов идеологии «счастливого детства», тема «юного осведомителя» звучала все более приглушенно. Даже в начале 1930-х донос на родителей далеко не всегда вызывал безоговорочное восхищение. Конечно, история Павлика была не единственной, где подчеркивалось, что дети обязаны разоблачать родителей-преступников, однако помимо торжествующего ликования «Пионерской правды» звучали все-таки и другие голоса. Например, в пьесе Александра Афиногенова «Страх» (1931) Наташа, десятилетняя пионерка, сообщает одному из сослуживцев своего отца, что тот из карьеристских побуждений солгал о своем происхождении. Но она решается на донос в состоянии глубокого душевного расстройства:
«НАТАША. Но почему мне так плакать хочется? Пионеры не плачут, пионеры всегда веселые. (Заплакала, уткнувшись в подушку дивана.)
Входит Бобров.
БОБРОВ. Наташа, девочка моя, ты одна…(Взял ее за руку.)
НАТАША. Я не могу больше…Я…хотела тете Кларе сказать. Папу жалко, я все молчу, молчу. Даже грудь раздавливает от молчания.
БОБРОВ. Тебя обидел отец?
НАТАША. Он меня не обидел. Он всех обманул. Ой, дядя Коля, почему мне так плакать хочется? Я тебе расскажу про папину мать, хорошо? У нас ведь дружба с тобой?
БОБРОВ. Конечно, скажи, друг все поймет» {213}. [164]
Теперь, в соответствии с новыми принципами, разоблачающему родителей пионеру следовало испытывать душевное смятение. Донос стал рассматриваться как трагическая необходимость, а не как дело, приносящее моральное удовлетворение.
Интересно в этом контексте обращение Сергея Эйзенштейна к фигуре Павлика в фильме «Бежин луг». Сам режиссер утверждал, что его фильм основан непосредственно на истории семьи Морозовых {214}. Однако он внес в нее многочисленные изменения. То, что темноволосый, угрюмый Пашка, описанный Соломенным, превратился в жизнерадостного Степка, блондина арийского типа a la Квекс (для этого потребовалось покрасить волосы исполнителю роли) {215}, не было новшеством. Напомню, что уже во втором репортаже «Пионерской правды» (1932) Павлик изображен «светловолосым». Важнее, что изменены обстоятельства убийства. В «Бежином луге» Степок раскрывает обман своего отца случайно, наблюдая вместе с другими деревенскими пионерами за колхозным гумном. Таким образом, раскрытие преступления становится коллективным, а не личным делом. И хотя Степок, как полагается, оказывается жертвой злодейского убийства, донос следует за этим преступлением, а не предшествует ему. У Эйзенштейна Степок не бросает яростный вызов своему отцу, беспощадно разоблачая его в суде, а только сообщает мертвеющими губами своим товарищам-пионерам, что убийца — его отец: «Отец… стрелял… ищите в лесу… там» [165].
И хотя мотив доноса обычно фигурирует в позднейшей историографии Павлика [166], начиная с середины 1930-х он звучит намного приглушеннее, чем раньше. В октябре 1932 года «Пионерская правда» писала: «На суде в качестве свидетеля выступал светловолосый пионер Павел, и голос его не дрогнул, когда он говорил:
— Я, дяденька судья, выступаю здесь не как сын, а как пионер! И я говорю: “Мой отец предает дело Октября!”» {216}
Олег Шварц в 1933 году, вскоре после завершения процесса, также утверждал, что Павел разоблачал отца «уверенным и четким» голосом {217}. В повести Виталия Губарева «Один из одиннадцати», напечатанной в газете «Колхозные ребята» в том же 1933 году, Павлик относится к доносу дельно: «Таких не жалко! …Дай-ка, Яшк, карандаш и чистую бумагу. Напишем в ГеПеУ.». Более того, Губарев вводит в повесть новый персонаж, Олю Ельшину, дочь пропагандиста-рабочего с бритой головой, отправленного в деревню «укрепить здесь дела». Как оказывается, яблоко от яблони недалеко падает— девочка не уступает отцу в чувстве коммунистического долга. Когда тот говорит «Не у всякого пионера решимости хватит разоблачить родного отца!», Оля отвечает: «Нет, у всякого!»
«— Ну, представь себе, остроносая, что твой отец — секретарь партячейки — стал дружить с кулаками…
Оля не ждала этого оборота. С ее лица медленно сползла улыбка.
— Я бы… — Что бы ты?
— Я бы его перевоспитала…
Ельшин рассмеялся, обнимая ее.
— Ну а если бы и это не подействовало?
— Тогда… — Оля сделала глубокий вздох, словно набираясь решимости, — тогда я бы взяла и разоблачила его перед всеми» {218}. [167]
А уже через три года Яковлев описывает, как Павел, «волнуясь, путаясь», рассказывает обо всем учительнице, а потом так же «волнуясь», делает заявление в суде {219}. [168] Даже в версиях времен Большого террора Павел не представлен рьяным доносчиком. У Смирнова учительница убеждает Павлика:
«— Ты же знаешь: пионер первый помощник партии и комсомола и всегда стоит за дело Ленина, — сказала Зоя Александровна, — а поэтому и про отца нужно сказать, если он враг. — При этих словах Павлик покраснел. Учительница в упор спросила: — А кто враг?
— Мой тятька! — крикнул Павлик и побежал в избу».
Друзьям также приходится уговаривать Павлика перед судебными слушаниями: «Держись, Пашка, пионерия тут! …Смотри же, Паша, не бойся… Говори всю правду» {220}. В юбилейной заметке, напечатанной в «Пионерской правде» 4 сентября 1939 года, Павлик дает показания на суде сокрушаясь: «Мне больно это говорить, но мой отец — враг партии и народа, его нужно покарать!» Повесть Губарева «Один из одиннадцати» не переиздавалась; в 1940 году писатель опубликовал полностью обработанный вариант жития Павлика, из которого исчезла решительная пионерка Оля Ельшина [169].
Параллельно с изображением нарастающего нежелания сына выступать в качестве свидетеля обвинения усиливается и планомерное очернение его отца — дабы убедить аудиторию, что тот заслуживает разоблачения. В позднейших версиях биографии Павлика, например у Смирнова, отец представлен не только мошенником и пьяницей, но и жестоким мужем и отцом, регулярно применяющим насилие к жене и детям {221}. Теперь донос становится актом не только гражданского долга, но и самозащиты и перекликается с делом Кости Чеклетова, получившим широкую огласку в 1930 году: тот сообщил пионерскому отряду о поведении своих спившихся и озверевших отца и мачехи, ежедневно избивавших Костю ногами, палками и бутылками. История Кости закончилась уголовным расследованием и показательным процессом {222}. [170]
Террор и молчание
Таким образом, переработка легенды о Павлике, осуществленная в середине 1930-х годов, привела не только к появлению в ней нового мотива — Павлик как примерный ученик, но и к утрате двух исходных — Павлик как поборник идеологической чистоты внутри семьи и Павлик как воплощение политической бдительности в обществе в целом. Такая манипуляция мотивами может на первый взгляд показаться странной и провоцирует на вопросы. В самом деле, почему Павлика «возвысили» именно в тот момент, когда представления об идеальных отношениях между родителями и детьми стали меняться? И зачем тратить столько усилий на утверждение нового героического образа мальчика-активиста образца 1920-х годов, когда пионерскую работу предполагалось укоренить в институциональных рамках школы? Наконец, для чего понадобилось спускать на тормозах тему доноса в годы Великого террора, когда доносительство как социальная практика приобрело небывалый размах?