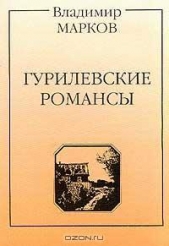Что значит быть студентом: Работы 1995-2002 годов

Что значит быть студентом: Работы 1995-2002 годов читать книгу онлайн
Эта книга — выходящий посмертно сборник работ петербургского историка и социолога Алексея Маркова (1967–2002). Основная часть книги — впервые публикуемая монография о петроградских студентах 1910-х — первой половины 1920-х годов как об особой общественной группе со своим набором ценностных установок, идеологических и коммуникативных практик. В приложении помещены статьи, посвященные эволюции образования, политикам тела и истории сексуальности в России конца XIX — первой трети XX века, а также проблемам современной отечественной гуманитарной науки.
Во всех работах А. Маркову были свойственны нетривиальный исследовательский подход и методологически заостренное видение. Поэтому его книга может быть интересной и нужной не только специалистам, но и всем читателям, интересующимся интеллектуальной историей России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
II. О языке документа
Остановимся на особенностях риторики настоящего текста. Перед нами образец бюрократического письма без юридических или медицинских коннотаций. Автор, полицейский чиновник, пользуется понятием «мужеложество» для описываемого им явления. Происхождение слова — древнерусское: его наиболее ранней зафиксированной формой было «мужелогание» (впервые — в тексте XII века). Это понятие — «калька» древнегреческого arrenocoltiax — «соединение мужчин, самцов», «мужесцепление» — и, тем самым, означает определенное действие. В российской медицинской литературе конца XIX века «мужеложество», «содомия» и «педерастия» часто использовались как синонимы. Два последних имели более широкое применение и отличались известной неопределенностью значений, имея в виду и гомо-, и гетеросексуальные акты. «Мужеложество» как юридический термин могло описывать и гетеросексуальный анальный акт (казус, известный из определения Сената по делу Микиртумова в 1869 г.). В публикуемом документе это понятие охватывает как анальный, так и оральный секс, взаимную мастурбацию, мужской групповой секс и мужскую проституцию, означая известные телесные акты (но не более того!). При всей расплывчатости понятий можно утверждать, что автор далек от идеи патологической гомосексуальной личности и рассматривает то, что позднее назовут «гомосексуализмом» как недавно возникший и быстро распространившийся социальный порок («существует уже несколько лет»), свойственный «главным образом» «людям богатым, для которых сношения с женщинами сделались уже ненавистными». «Неимущие» и «молодые люди» — только «жертвы», кои «питают весьма часто глубокое презрение к подобного рода промыслу, но отдаются ему тем не менее, хотя и с отвращением, ради выгод и приобретения средств к веселому и легкому существованию». Эта картина сексуального поведения куда больше напоминает взгляд на человеческое тело как социально, а не биологически детерминированное, распространенный в анатомических и медицинских трактатах до середины XVIII века, нежели современные автору европейские «натуралистические» представления. При этом, правда, важно отметить, что медицина 1880–1890-х годов также оставляла широкое поле для понимания гомосексуализма лишь как социального порока: например, В. М. Тарновский уделял значительное внимание «приобретенной педерастии» [493]. В свою очередь, тема социально-имущественного расслоения стала доминировать в размышлениях российской образованной публики после эпохи Великих реформ, в годы быстрого экономического развития при Александре III (1881–1894). «Купеческая» драматургия А. Н. Островского, «крестьянская» литература, социальные романы Л. H. Толстого так или иначе обратились к обсуждению болезней «капитализации» страны. Появление слоя неимущих, но праздных горожан, «людей дна» также «оформилось» в самостоятельную тему публицистов и писателей. В отличие от распространенного в западноевропейских текстах имиджа опасного «люмпен-пролетария», которого необходимо надежно изолировать и контролировать как источник беспорядка и болезни, в т. ч. для буржуазного семейства, в России часто используется иная конструкция — развратный «буржуа»/бюрократ/дворянин разлагает традиционную народную нравственность. Имея богатую предысторию в славянофильской традиции, эта идея была подхвачена и консерваторами с их антибюрократической риторикой, и осторожными либералами с их противоречивым идеалом Запада, и революционерами с дорогим их сердцу крестьянином-общинником, а позднее — пролетарием. Конечно, существовало и близкое соответствующим европейским текстам видение предмета, но в подчеркнуто умеренных тонах и с более чем немногочисленным кругом сторонников (по крайней мере, до 1907–1917 гг.). Эта же специфика отличает и русские медицинские и юридические тексты о проституции и гомосексуализме (при всех их отличиях друг от друга). Мы не стали бы утверждать, что такой взгляд на вещи заимствован нашим чиновником из каких-то текстов, — речь идет о «духе времени».
Тема «заговора», опасной «приватности» происходящего — еще одна связующая нить текста записки. «Развратники» «с одного взгляда узнают друг друга по некоторым неуловимым для постороннего приметам, а знатоки могут даже сразу определить, с последователем какой категории теток имеют дело». У них бывают «собрания», «вечера» и «балы» в различных местах города, есть нечто вроде «клуба» в одном ресторане (видимо, в ресторане Палкина), «высокопоставленные покровители», соединяющие общество «сводни» и даже «особого рода клятва», наподобие масонской, обязывающая «помогать» и «доставлять места» друг другу. «Разврат» скрывается «под благовидным покровом частных семейных вечеров и кутежей в гостиницах». Для пополнения своего круга молодежью члены общества «не щадят, как известно, никаких средств». Впоследствии некоторые их жертвы кончали самоубийством, а другие — «в лучшем случае» — «покидали родительский дом, чтобы жить отдельно на счет своих содержателей-теток, и затем уже бесследно исчезали для своих родных надолго, если не навсегда». Опасное общество разрушает и другой традиционный институт — армию, подрывая отношения субординации и «строгой дисциплины» в войсках.
Предложить более или менее убедительную интерпретацию этого настроения можно, учитывая как недавний, так и более отдаленный исторический контекст. Страхи перед тайными обществами разного рода, но с неизменно — для власть предержащих — разрушительными, «революционными» намерениями появились в России после Великой Французской революции и в еще большей мере в конце царствования Александра I и при Николае I. Напомним, что именно в 1822 году было запрещено российское масонство.
Однако еще более важными представляются события 1860–1880-х годов. Деятельность тайных революционных организаций при Александре II, повлекшая за собой в конце концов гибель царя, и расцвет идеологии консерватизма в России заслуживают в этой связи особого внимания. В условиях быстрого разрушения традиционного общества автору записки главные угрозы видятся в постепенном овладении «развратниками» государственным аппаратом, подрыве основ армии и семьи, то есть прежде всего отношений патриархальной власти. Кроме того, на страницах документа отразились сложные отношения между едва народившейся протобуржуазной общественностью и государством; коллизии, связанные с появлением грани между публичным и приватным. В этом смысле в документе не усматривается специфически российских особенностей: подобные страхи широко распространились и в меняющейся Европе. Конкретно тема масонства могла прийти на ум полицейскому чиновнику и в связи с возрождением интереса к старому русскому масонству, и в связи со скандалами, сотрясавшими французское общество эпохи Третьей республики, о чем в России были осведомлены. Последнее даже более вероятно, поскольку сомнительно, чтобы полицейский чин со столь неизощренным языком читал научные трактаты по истории отечественного масонства.
Характерно, что самоназвание описываемых в записке лиц — «тетки» — калька распространенного французского вульгаризма «tantes» (в смысле «гомосексуалисты»), что вписывает и эту сторону русской жизни в европейский контекст. Слово могло прийти в Россию разными путями — посредством французов, живших в Петербурге, благодаря русским путешественникам, через литературу и т. п. Да это и не столь важно: главное — это отсутствие разрыва между русскими и европейскими реалиями.
В заключение мы хотели бы отметить, что дальнейшее изучение как данного текста, так и материалов, обнаруженных нами в связи с фигурирующими в нем лицами и событиями, открывает новые возможности для обсуждения проблемы появления и развития современных личности и общества в России, их национальной специфики на европейском — прежде всего германском и французском — фоне, представлений о человеческом теле, публичном и частном и др. Долгое время игнорировавшиеся исследователями, подобные тексты встречаются в отечественных архивах, по всей видимости, не реже, чем в других странах, и заслуживают самого пристального внимания.