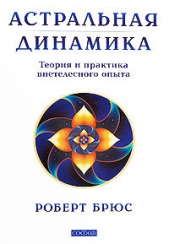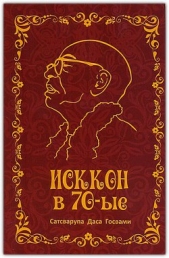Эти странные семидесятые, или Потеря невинности

Эти странные семидесятые, или Потеря невинности читать книгу онлайн
В этом сборнике о 1970-х годах говорят активные участники тогдашней культурной жизни, представители интеллектуальной и художественной среды Москвы – писатели и поэты, художники и музыканты, коллекционеры и искусствоведы. Говорят по-разному, противореча друг другу – и эти противоречивые «показания» дают возможность увидеть непростое время в некоторой полифонической полноте. Сборник проиллюстрирован фотографиями из архивов Георгия Кизевальтера, Игоря Пальмина, Валентина Серова, Владимира Сычева, Игоря Макаревича, многие из которых ранее не публиковались.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С Шелковским мы познакомились примерно в 1969 году в Доме творчества Переславля-Залесского. Туда ездили и Пригов, и Соков, и Лебедев. А в 1970-м у Шелковского появилась мастерская в Просвирином переулке, недалеко от Кабакова. Мы встречались в основном там, потому что это был центр, и Пригов там читал свои стихи. Туда захаживали в ту пору Семенов-Амурский с учениками, Андрей Гросицкий. Там мы знакомимся и с Ваней Чуйковым, который в начале 1970-х вернулся из Сибири, где работал по окончании института.
Позже, году в 1975-м, в нашем круге появляются Римма и Валерий Герловины. 1976-й был годом тесного общения с Риммой и Валерой, которые увлекли нашу тусовку к себе в Измайлово. Они откуда-то доставали «Артфорум», другие журналы. Поскольку Валера бегло читал по-английски, он переводил для всех: так они занимались просветительством. В начале 1976-го они впервые употребили это новое слово «концепт» – «концептуализм» еще как бы не появился в ту пору, но «концепт» уже существовал. Они увлекались тогда Флюксусом, амбициозно делали объекты, кубики, фотографии и одними из первых занялись акционизмом. Герловины, которые начали на два-три года позже Комара и Меламида, были мощным центром в то время. Римма – очень образованный интеллектуал. Валера – энергетически напряженный, целеустремленный человек, который реализовывал все Риммины намерения, переводя их в пластические образы. Это был чудный тандем. Жаль, что о них редко вспоминают в последнее время.
Вообще-то, первыми концептуалистами в Москве были Комар с Меламидом: еще около 1974 года они сделали «Историю России в заседаниях» – объект не объект, не инсталляция, а скорее даже акция. Я эти вещи увидел немного позже, а сначала «услышал по телефону», но впечатление было потрясающее. Как мне кажется, они впервые показали их на одной из рабинских квартирных выставок, где стояли подрамники, прислоненные к стене, и можно было их по очереди отодвигать и смотреть на все эти заседания, начиная с какой-нибудь Новгородской думы, где количество людей все увеличивалось и увеличивалось, а больше ничего и не менялось. …Комар и Меламид часто выступали как генераторы идей, а аранжировщиками были их ученики, группа «Гнездо». Я считаю, что и Косолапов был временами блистательным аранжировщиком идей Энди Уорхола и Комара с Меламидом. А последние уже были созидателями текстов.
Вот Леня Соков был довольно странной фигурой. В ту пору он особенно не примыкал ни к одной группировке. Он не слушался Комара с Меламидом, к ним не ходил. И у нас, на улице Рогова, не сиживал, ничего не подслушивал и влияния Саши Косолапова не испытывал, хотя они были большими друзьями. Он сам, в советской муке сформировался. И Соков, и Косолапов до своего отъезда в Америку в 1975 году делали поп-арт, достаточно вспомнить объекты-предметы Сокова – рубашку, палец… Но у Лени уже тогда, в самом начале семидесятых, когда он сделал быка с часовым механизмом, наметилась склонность к наивной народной механике, которую он не оставляет и по сей день, что делает его уникальным художником. Там те же мотивы, которые задействовал и соц-арт, но у него была неповторимая ниша.
А соц-арт к Косолапову пришел позже – он был обозначен постфактум. В отличие от Комара с Меламидом, все, что он делал тогда, было сделано под влиянием американского поп-арта. Все эти шпингалеты, замок из тряпочек на самом деле были навеяны Олденбургом.
Вся эта напряженная жизнь продолжалась примерно до 1979 года. В 1975-м уезжает Косолапов, в 1976-м – Шелковский, в 1979-м – массовый отъезд, когда уехали Соков, Герловины, Комар с Меламидом, – это было групповое бегство. Причем мало кто слушал тех, кто уже уехал, хотя бы того же Солженицына. Помню горестные письма Косолапова оттуда уже в 1975-м. «Ребята, торчите там, где воткнуты!» А позже Соков, который так хотел быть западным художником, скажет мне: «Ты не представляешь, как тут нас всех поставили раком!» Многие годами жили без языка… Такие иллюзии развеивались!
Тогда были «отъезжанты» и «здесь-сиденты». Игорь Шелковский упорно уговаривал нас всех ехать. Мы ночами мучительно спорили. Пригов отчаянно настаивал, что ехать преступно, потому что мы отрываемся от почвы, от языка. А так как язык был для нас главной основой творчества, от него нельзя было отказываться. По сути, американская среда не приняла никого, кроме разве что Комара с Меламидом.
В общем, тогда наши ряды поредели, и в Москве началась перегруппировка, поскольку старые пассионарные очаги исчезли. И оставшиеся стали группироваться у Кабакова и у Булатова. Нам был ближе Булатов, поэтому мы больше к нему ходили. Впрочем, Булатов с Кабаковым были близкие соседи.
Были в то время и яркие художники, с которыми мы не общались по разным причинам, например Михаил Чернышев. Мы видели несколько его выставок на Грузинской. Человек он был пассионарный, выражался адекватно. Познакомился я с ним позднее, а тогда, кроме уважения и восхищения, у меня ничего к нему не было, потому что не было точек соприкосновения.
В те же годы я очень уважал Янкилевского. Я с его творчеством впервые познакомился в 1963 году, в гостинице «Юность». Там была групповая выставка, но я запомнил из участников только его. Я очень хотел с ним познакомиться, но сделал это лично уже тогда, когда его влияние мне было безопасно, ибо он – мощная и пассионарная фигура. Когда мы только учились, он уже сформировался.
Когда в начале семидесятых я впервые увидел Чуйкова, он меня тоже ошеломил. Он в то время уже пытался освоить поп-арт – делал вещи, похожие на фотографии в журналах моды. Локально закрашивал поверхности эмалью, раскраски. Мне показалось: вот тот материал, который мне будет полезен. А он в свое время, вероятно, подсмотрел этот материал у Кабакова. Для меня эмаль оказалась как божий подарок. Я «разводил» в то время скульптуру живописью, и эмаль мне давала некую пленочность, которая противостояла этому объему как что-то несущественное, что вроде бы можно содрать с этого объема. Эмаль блестела, сверкала. Лианозовцы очень любили на фузе писать, а эмаль не имеет фактуры. Тогда цветной-то эмали не было, мы брали белую, туда чего-то добавляли… Пивоваров тоже от нее с ума сходил.
Что касается поэзии, то и там имелся свой «кабаков». Им был «пламенный мотор» Д.А. Пригов, который тогда просто перепахивал всю Москву. Он легко шел на завязывание контактов и умел эти контакты надолго сохранять. Поскольку в ту пору он больше занимался литературой, он придумал и в изобразительном искусстве такую форму, чтобы там уживались его тексты и высказывания. Первые литераторы, которых он привел к нам в мастерскую, были литераторы 1960-х годов, из круга Евтушенко: Слава Лён, Леня Губанов, Владимир Алейников… С двумя последними наша дружба не завязалась, они выпить любили. Потом появились другие: Миша Айзенберг, Саша Величанский, Сабуров, который позже стал премьер-министром республики Крым… Он был экономистом, но в то время занимался еще и литературой… Миша Айзенберг в начале семидесятых привел к нам Толю Жигалова, он тогда еще стихи писал, очень неплохие. Женя Попов был большим нашим другом, бывал у нас частенько, читывал свои вещи. Наконец, многие питерские заезжали к нам – так познакомились с Кривулиным, ныне покойным, с другим питерским поэтом, Куприяновым, – не знаю, что с ним сейчас.
В начале восьмидесятых мы в мастерской Эрика Булатова познакомились с Сорокиным. Первый раз он нам показал свой сборник «Песенник»: он взял советский песенник, и каждый рассказ у него начинался с песни, а дальше черт знает что начинается, сорокинские фантасмагории, – нам это очень нравилось. Его тексты той поры, начала восьмидесятых, – «Норма», «Очередь» – по сути, были продолжением семидесятых. Сорокин в те годы предпочитал, чтобы его читал Пригов, а потом стал читать сам.
С Левой Рубинштейном мы познакомились в 1981-м: он и Пригов читали свои стихи у него в квартире на Маяковке. Илья Кабаков тогда тоже пришел, а после чтения сказал Пригову: «Дима, как много вы читаете на собачьем языке. Не боитесь сами “особачиться”?» Это в нем еще экзистенциалист говорил. А потом и сам «насобачился», стал на таком же языке изъясняться!