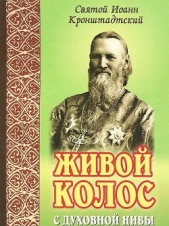Живой меч или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста

Живой меч или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тысячекратные крики громадных толп заглушают музыку и пение хористов. Опьяняя самих себя, люди приходят в исступление: мужчины размахивают вытащенными из ножен саблями и потрясают пиками, девушки бросают вверх букеты цветов, матери поднимают над своей головой маленьких детей, старики простирают руки над молодыми, благословляя их на подвиги. В довершение всего гремит оглушающий артиллерийский залп. И сотни тысяч граждан Первой Республики вдруг на мгновение сливаются в одно целое в едином братском объятии…
Леба закрывает глаза…
– Диктаторы! – Триумвиры! – Злодеи! – Вот он, тиран! Диктатор! – Будь ты проклят! И ты, и твои сообщники! – Помолись, чтобы твое Верховное существо спасло тебя от возмездия, Великий жрец! – Первосвященник гильотины, тебе мало быть королем – ты хочешь быть богом! – Вспомни Шарлотту Корде, Цезарь! Каждый из нас может быть Брутом! – Твоя «Гора» станет тебе Тарпейской скалой! – Отпраздновал день святой Троицы, лицемер? – Праздник Троицы – Триумвиров! – Тираны! – Смерть им!…
Вот эти и многие другие оскорбительные возгласы из толпы членов Конвента, казалось, покорно бредущей за своим вожаком с поля Единения, Робеспьер слышал за спиной всю долгую дорогу обратно. Было темно. Неподкупный шел, опустив голову и глядя себе под ноги, которые то и дело наступали на брошенные букеты колосьев и цветов и на раздавленные трехцветные эмблемы. Он не оборачивался – лиц своих врагов он все равно бы не мог разглядеть. Но Робеспьер узнавал знакомые голоса и еще больше опускал голову. Верховное существо услышало его, услышал его и весь державный французский народ, не услышала только эта кучка предателей… Неподкупный всем своим телом чувствовал смрадное дыхание катившейся за ним следом толпы депутатов, ощущал спиной их ненавистные взгляды, и липкий страх начинал заползать в его душу. Нет, не страх перед тем, что свирепая в своем трусливом отчаянии толпа вдруг может напасть на него сзади и разорвать на части, – это был страх перед окончательно наметившейся возможностью поражения. Мечта о совершенном обществе добродетельных граждан, поклонявшихся справедливому Верховному существу, начинала понемногу отдаляться все дальше.
И тогда Робеспьер стискивал зубы, его кулаки угрожающе сжимались, и он думал о новом прериальском законе против тиранов.
В дом Дюпле Максимилиан Робеспьер вернулся уже совершенно больной. Искавший весь день глазами Сен-Жюста и нигде не нашедший его, он теми же самыми измученными глазами посмотрел на домочадцев и со словами: «Друзья, вам не долго осталось меня видеть» – обессиленный рухнул на кровать.
Всего этого не знал радостный и спешащий к своей беременной жене Леба, считавший состоявшийся праздник бесспорно удавшимся торжеством Робеспьера, как первого гражданина создаваемой Добродетельной Республики Верховного существа. И в этот день ничто не могло и не должно было расстроить его триумф.
Это был последний триумф Робеспьера.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
МСТИТЕЛЬ НАРОДА, ИЛИ ГИЛЬОТИНА, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ПОТОК
В этот день туалет осужденных затягивался. Их было слишком много, и Шарль Анрио Сансон соскучился прохаживаться в приемной Консьержери вдоль длинной решетки, разделявшей выход во двор от первой комнаты тюрьмы.
В «предбанник Фукье» (как и многие, именно так называл про себя Шарль Анрио эту тюрьму, и это несмотря на то, что сам государственный исполнитель приговоров очень не любил гражданина общественного обвинителя) Сансон пришел прямо из трибунала. Это был его второй визит в Консьержери за сегодня – первый раз он, как обычно, явился в приемную около девяти часов утра. «Охапка» в этот день намечалась весьма и весьма значительная, и следовало подготовиться к приему большого количества осужденного материала.
Помощники были уже все в сборе (из тех, кто должен был ожидать его в Консьержери), присутствовал даже обычно опаздывавший Барре. Повозки с возницами ожидали их во дворе. Все было как всегда, но настроение самого Шарля Анрио оставалось весьма смутным: к чувству приподнятости от осознания необычайности и важности происходящего (вряд ли еще какой другой исполнитель приговоров когда-нибудь мог похвастаться тем, что окажется главным государственным палачом в эпоху общенациональной смуты!) примешивалось чувство душевной опустошенности и даже усталости. Усталость была не физическая – Сансону все более и более начинала претить бойня, в которой он являлся главным распорядителем.
Бойня… Не называть же проводимые им массовые экзекуции казнями! Против этого названия восставала вся семейная традиция, внушенная Шарлю Анрио с детства. Он по-своему понимал казни: как торжественный государственный обряд (почти праздник!), как своеобразное служение (не Богу, но государству и королю!), со всеми полагающимися к нему аксессуарами – священнослужителями, специальной одеждой осужденного, долгим чтением приговора с перечислением всех вин – в качестве назидания для толпы, и самое главное – особой самого казнимого.
Тогда приговоренный к смерти был главным действующим лицом публичного спектакля, палач – вторым. Казнили редко (не каждый день), казнили поодиночке, группами – реже (не десятками в день), казнили не всегда смертной казнью (а теперь других публичных наказаний просто не существовало). Бичевание, позорный столб, проставление клейм – было зрелищем куда более красочным, чем нынешнее гильотинирование. Но вот уже давно запрещены телесные истязания и калечение, а роль палача свелась к роли механизма, нажимающего на рычаг (да и на рычаг зачастую нажимали его помощники, а сам главный распорядитель приговоров лишь следил за ходом самого процесса).
Впрочем, Шарль Анрио отдавал себе отчет, что привередничает напрасно: его беда была в том, что он начинал задумываться над происходящим, а это вовсе не входило в его обязанности. Конечно, при всех раскладах «революционному порядку управления» было далеко до старого порядка. Но это если судить по бытовым реалиям жизни. А вот самому Сансону работы прибавилось. И, как ни странно, многократно возросла ее популярность, и куда-то почти полностью пропало отвращение к гражданам-исполнителям. Люди привыкли, – как и во время чумы, смерть была готова постучаться в окошко каждому. Страх убивал отвращение, а то, что это был страх всеобъемлющий, всеохватывающий, страх вселенский, он мог даже вызвать преклонение перед его служителями у слабых духом.
Сансон покосился взглядом на выщербленную кирпичную стену тюрьмы, на которой в полном беспорядке была развешана какая-то революционная мазня – плакаты и литографии вроде «Взятия Бастилии», «Взятия Тюильри», «Взятия Тулона», а также «Революции 30 мая», «Казни тирана Капета» и «Записи добровольцев-санкюлотов в батальоны, направляемые в Вандею». Ну вот, если это, с позволения сказать, «живопись» нового порядка, то какой же, спрашивается, красоты он ждет от исполнения приговоров по-революционному?
Вообще-то человек не меняется, даже если изменились условия общественного договора, о котором так любят говорить сторонники нового общества. Взамен старых обрядов появились новые, и пусть теперь в исполнении приговоров нет такой торжественности, как раньше, кто скажет, что новые обычаи хуже?
Так, если раньше тела погребались в неосвещенной земле в простых ящиках, то теперь их хоронят на трех кладбищах, освященных еще при старом режиме, но как хоронят! – просто сваливают трупы в общую яму-могилу и густо присыпают негашеной известью! Вот и разбери, какое погребение лучше!
Да и незачем теперь вспоминать гражданский уголовный трибунал – его больше нет, есть Революционный трибунал. Нет больше и прежних орудий казни – виселиц, станка для колесования, плахи, – есть машина для отрубления голов, совершенно случайно получившая нейтральное название «гильотины». Нет больше и священников, никто не причащает и не утешает осужденных перед смертью, – зато вера, которая воодушевляет теперь большинство казнимых и позволяет многим из них умирать в редком спокойствии духа, не может быть сравнима со старыми верованиями, – эта странная и малопонятная для Сансона вера в философию Вольтера, Руссо и прочих безвременно ушедших просветителей. Жалко, что ушедших, – вот бы и до них добраться революционному мечу, – ведь это по их вине (так это дело понимает Сансон) совершаются ныне бесчисленные жестокости и профанируется само правосудие.