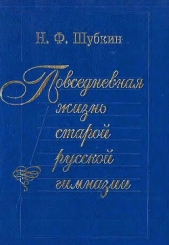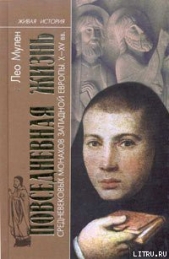Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения
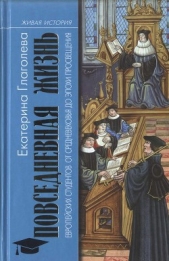
Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения читать книгу онлайн
Студенчество — тяжелая пора. Школярам порой приходилось голодать, а их спины покрывали шрамы от ударов, которыми вколачивали в них знание латинской грамматики.
Студенчество — веселая пора. Члены университетских сообществ устраивали шутовские испытания для новеньких, производили набеги на трактиры и постоялые дворы, посещали игорные дома порой чаще, чем классы, распевали фривольные стихи на мотив церковных песнопений.
Тяга к знаниям и охота к перемене мест заставляли студентов колесить по всей Европе. Бывало, переселялись даже целые университеты, не поладившие с местными властями.
Книга Екатерины Глаголевой рассказывает, почему обучение велось на латыни, как возникли знаменитые сегодня Сорбонна, Оксфорд и Кембридж, кто был прототипом доктора Фауста, как правительства боролись с «утечкой мозгов», какие факультеты считались наиболее престижными и какие жертвы приносили на алтарь науки ее верные адепты в надежде узреть истину.
Возрастные ограничения: 16+
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«При одной мысли о науках квадривия, — писал святой Бонифаций (672–754), — у меня от страха захватывает дух. Пред ними все науки тривия — просто детская забава». В начале XI века Герберт Реймсский (940–1003), который преподавал в Реймсской школе все семь вольных искусств и впервые перешел на арабские цифры, считал возможным изучать арифметику только с исключительно одаренными учениками. Да и в дальнейшем арифметика сохраняла звание труднопостижимой науки и была кошмаром юных «абацистов», гремевших костяшками абака — счётов. Но, возможно, и тут всё дело упиралось в невежество преподавателей, так как освоить искусство счета по учебнику оказывалось делом совсем несложным, в чем имели возможность убедиться довольно многие. Например, Этьен Паскаль вообще запрещал сыну изучать математику, пока не подрастет, и тот делал это тайком, читая Евклида и подслушивая разговоры отца с известными математиками того времени Дезаргом и Робервалем. Когда он попытался собственным путем доказать теорему, что сумма углов треугольника равна сумме двух прямых углов, отец снял свой запрет. В результате уже к семнадцати годам Блез на равных обсуждал научные проблемы с крупными учеными и написал «Опыт о конических сечениях», названный современниками «наиболее ценным вкладом в математическую науку с дней Архимеда». В 22 года Паскаль создал первый «калькулятор» для выполнения сложения и вычитания, а впоследствии сконструировал 50 образцов счетной машины (на четыре и шесть разрядов, для денежных единиц).
Не все подходили к арифметике так утилитарно, как сын сборщика налогов. Блаженный Августин (354–430) считал числа мыслями Бога, поэтому знание чисел, по его мнению, давало знание Вселенной. «Все науки, — говорил кардинал Иаков Витрийский (1160–1240), — должны восходить к Христу… Добрая наука геометрия, так как она учит нас измерять землю, куда отойдет наше тело; добрая наука и арифметика, или искусство считать, так как с ее помощью мы можем убедиться в ничтожном числе наших дней». Даже Исаак Ньютон (1643–1727) потратил несколько лет, «математически» изучая Библию в попытке открыть некий универсальный закон бытия.
Школьная астрономия Средневековья сводилась к понятиям об измерении времени, о различии солнечного и лунного месяцев, о солнцестояниях и равноденствиях, о движении планет и знаках зодиака. Всё это было нужно, чтобы определять даты переходящих церковных праздников. До середины XVII века, несмотря на открытие Коперника («Об обращениях небесных сфер», 1543), студентам преподавали геоцентрическую систему Птолемея. Даже Галилей, уверившийся в справедливости гелиоцентрической системы, сформулированной польским ученым, по-прежнему провозглашал с кафедры птолемеевскую «ересь». Несмотря на то, что инквизиция не обладала безграничной властью в Падуе, где Галилей в 1592–1610 годах преподавал прикладную механику, математику, астрономию и фортификацию, пример Джордано Бруно побуждал его «не высовываться» [34]. Его собственные труды о вращении Земли были осуждены папской цензурой в 1633 году. Рене Декарт воздержался от публикации своего «Трактата о мире», в котором утверждал, что движение планет вызвано вихревыми потоками эфира. Впрочем, у него всё равно оказалось немало последователей; французские ученые придерживались теории Декарта и в начале XVIII века.

Гораздо бо́льшим почетом пользовалась астрология, которую преподавали… на медицинском факультете. Еще Гиппократ утверждал, что звезды оказывают влияние на зарождение болезней. Гален склонялся к мысли, что наибольшее влияние на здоровье оказывает Луна. Парацельс считал, что именно «звезды», то есть планеты, повинны в возникновении эпидемий, в том числе чумы и тифа.
И в тривий, и в квадривий входило также пение, жизненно необходимое будущим священнослужителям; но теорией музыки занимались не все учащиеся, а лишь самые одаренные из них.
Получив эти базовые знания, можно было приступать к изучению философии, богословия, права и т. д. Но суть, увы, не менялась: юных «орлят», да и зрелых «воронов» заставляли питаться мертвечиной.
До конца XVIII столетия философию преподавали по Аристотелю, хотя Рене Декарт отошел от его воззрений и предложил свою концепцию дуализма, а Антуан Арно противопоставил ей собственную монистическую теорию. Впрочем, схоластическая философия не заключала в себе никаких неоспоримых истин, утверждая, напротив, что «нет такой вещи, которую нельзя было бы оспорить». Как это правило применялось на практике, мы уже говорили в главе о диспутах. Английский философ Иеремия Бентам (1748–1832), считавший главным при оценке всех явлений принцип полезности, после недолгого пребывания в Оксфорде заявил: «Во лжи и лицемерии состоит существо английского университетского образования».
«Преподавание кажется ему отвратительным, — писал Стефан Цвейг в эссе об Эразме Роттердамском, — скоро он навсегда проникается неприязнью к схоластике с ее мертвенным формализмом, ее пустым начетничеством и изворотливостью, художник в нем восстает не с такой восхитительной веселостью, как у Рабле, но с тем же презрением — против насилия, которое совершается над духом на этом прокрустовом ложе. „Ни один человек, хоть когда-нибудь общавшийся с музами или грациями, не может постичь мистерий этой науки. Здесь надо забыть всё, что ты узнал об изящной словесности, изрыгнуть всё, что ты испил из ключей Геликона. Я считаю за лучшее не говорить ни слова латинского, благородного или высокодуховного, и делаю в этом такие успехи, что они, того и гляди, признают меня однажды своим“. Наконец, болезнь дает ему долгожданный предлог улизнуть с этих галер тела и духа, отказавшись от докторской степени».
Самой главной — и, как ни печально, неизбывной — проблемой было расхождение между университетской наукой и реальной жизнью. Университеты готовили книжных червей, а не специалистов-практиков. Редкие подвижники — ученые, мыслители, выдающиеся педагоги — были крошечными яркими островками, окруженными морем серости. Например, Бартоло да Сассоферрато (1314–1357), преподававший право в университетах Пизы и Перузы, улучшил и систематизировал глоссарий к своду законов, который теперь представлял собой уже не пересказ текста другими словами, а его толкование. Все правоведы Италии считали его своим учителем, но в XVI веке представители новой волны — юридического гуманизма, также зародившегося на Апеннинах, но развернувшегося во всю ширь во Франции благодаря Гильому Бюде и его ученикам, — подняли его на смех. Дело в том, что «бартолисты» уже не подходили к делу творчески, как их учитель, и занимались комментированием не собственно Гражданского кодекса, а средневековых глосс самого Сассоферрато. Рабле в «Пантагрюэле» высмеивает толкователей, а Бомарше в «Женитьбе Фигаро» выводит на сцену антипатичного юриста — доктора Бартоло, явно намекая на его средневековый прообраз.
Гуманисты отринули прежние догмы, провозгласив, что «истина в юриспруденции происходит из свидетельских показаний, а не от власти ученых докторов». Они уже не считали римские законы истиной в последней инстанции, неоспоримой для всех времен и народов. Римское право следовало приспособить к эпохе, а для этого требовалось как следует его изучить, основываясь на трех китах: филологии, истории и дипломатии. Некоторые представители гуманизма, юристы-практики, устремляли свой взор не к истории Рима, а к национальной истории и национальному праву. В результате римское право постепенно утратило прежнее значение, уступив место французскому Но, например, в Лувене кафедра государственного права была создана только в 1723 году.
Знаменитый французский философ Дени Дидро (1713–1784) составил в 1775 году для российской императрицы Екатерины II «План университета», который она потом поостереглась осуществить на практике. Дидро два года обучался в Париже философии и три года богословию и считал, что французский университет, не претерпевший изменений со времен Карла Великого, может служить лишь отрицательным примером: «Наш юридический факультет просто жалок. Там не читают ни слова о французском праве, ровным счетом ничего ни о нашем гражданском и уголовном кодексе, ни о процедуре, ни о наших законах, ни о наших обычаях». А ведь к тому времени французское право уже почти сотню лет входило в обязательную программу преподавания на юридических факультетах.