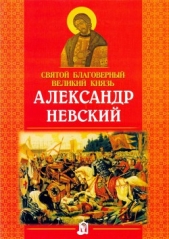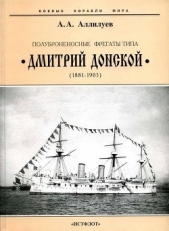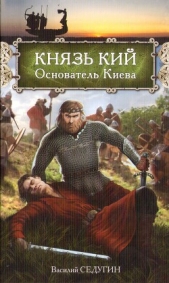Дмитрий Донской, князь благоверный (3-е изд дополн.)
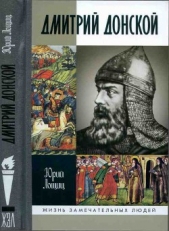
Дмитрий Донской, князь благоверный (3-е изд дополн.) читать книгу онлайн
Выдержавшая несколько изданий и давно ставшая классикой историко-биографического жанра, книга писателя Юрия Лощица рассказывает о выдающемся полководце и государственном деятеле Древней Руси благоверном князе Дмитрии Ивановиче Донском (1350–1389). Повествование строится автором на основе документального материала, с привлечением литературных и иных памятников эпохи. В книге воссозданы портреты соратников Дмитрия по борьбе с Ордой — его двоюродного брата князя Владимира Андреевича Храброго, Дмитрия Боброка Волынского, митрополита Алексея, «молитвенника земли Русской» преподобного Сергия Радонежского и других современников великого московского князя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Далее Дмитрий потребовал от тверского князя предоставления полной самостоятельности Кашину. Пусть кашинским уделом ведает, как и прежде, вотчич Василий. И дань ордынскую с князь-Василия Михаилу впредь не требовать, это дело великого князя. «А имешь его обидети, мне его от тобе боронити».
Дань данью, но что подлинно должно было удивить Михаила, так это великокняжеское условие относительно возможного прихода ордынской рати. Дмитрий без обиняков потребовал: «А пойдут на нас татарове или на тебе, битися нам и тобе с единого всем противу их. Или мы пойдем на них, и тобе с нами с одного поити на них». Да, меняются времена! Ещё недавно о подобном говорили разве лишь шёпотом, без свидетелей. И дед Михаила, Михаил Ярославич, и дед Дмитрия, Иван Данилович, уж на что были мужи сильные, посчитали бы безумием вписывать такое вот условие в свои грамоты. А молодой москвич говорит сегодня об этом как о чём-то привычном, заурядном. И вместе с тем каждым своим словом отрезает Михаилу путь к отступлению. Попробуй теперь, согласившись на союзные действия против Орды, сунуться за сочувствием к тому же Мамаю!
Следующее требование великого князя московского ещё больней связывало Михаила по рукам и ногам. «А пойдут на нас литва или на смоленского на князя на великого, — настаивал Дмитрий, — или на кого на нашу братью на князей, нам ся их боронити, а тобе с нами всим с единого. Или пойдут на тобе, и нам тако же по тобе помагати и боронитися всем с единого».
С чего бы пойти Ольгерду на Тверь? А вот на смоленских да на брянских князей, которые теперь у тверских стен стоят, литовец наверняка пойдёт. И, значит, Михаил обязан выступить тогда против своего зятя, столько раз ему помогавшего? Не сладко. Но пришлось сейчас и с этим условием согласиться.
«А с Новым ти городом и с Торжком жити в старине и в миру», — следовало предложение за предложением, и каждое почти начиналось с этого московского твёрдого акающего «а»…
«А боярам и слугам вольным воля». Дмитрий потребовал только, чтобы правило боярской воли не распространялось на Ивана Вельяминова, потому что он не перешёл открыто со службы на службу, а исподтишка изменил своему хозяину, да и Михаилу, как совершенно очевидно, принёс одни лишь несчастья. Все земли беглеца Вельяминова изымаются в пользу великого князя.
Случится какой спор о земле или о людях, московские и тверские бояре пусть съедутся на рубеже для судебной расправы. Если же сами не сговорятся, то пусть призовут третейским судьёй великого князя рязанского Олега Ивановича.
Известно, что Олег не участвовал в походе русских князей на Тверь. Но назначение третейским судьёй в возможных спорах между Дмитрием и Михаилом не могло, конечно, состояться без его собственного согласия. Из этого можно заключить, что ко времени похода 1375 года в отношениях между Москвой и Рязанью наметились благотворные перемены. Называя своего южного соседа в качестве судьи-посредника, Дмитрий тем самым умно и необидно выводил его из рязанского закута, привлекал к общерусскому делу.
Веские, беспрекословные, будто в металле отлитые требования докончальной грамоты отражали твёрдую уверенность, обретённую Дмитрием к исходу лета 1375 года. Сейчас, пожалуй, было переломное время всей его жизни. Голос молодого князя окреп, приобрёл мужественное звучание. Этот голос стал слышен на всю Русь. Отныне к нему вынуждены будут прислушиваться и за её пределами.
Как и следовало ожидать, наказание Твери разгневало и Мамая, и Ольгерда. Но тот и другой могли сейчас себе позволить лишь небольшие карательные набеги на окраины великого Владимирского княжения. Ордынская рать повоевала сёла возле Нижнего Новгорода. Литовцы подступили к Смоленску, но тоже отличились лишь грабежом крестьянских дворов и малых городков. Якобы мстили за обиду, нанесённую тверичу: «Почто ходили ратью на князя Михаила Тверского?» Видимо, ополченцы к этому времени ещё не вернулись в свои города и сёла, и сопротивления карателям оказано не было.
Иван Вельяминов безвылазно сидел в Орде — а куда ему, выходило, податься? Он громко именовал себя тысяцким Владимира клязьминского — великокняжеской столицы (этот чин был обещан ему Михаилом, когда в Твери сговаривались). Но велик чином, а в треухе овчинном. Михаилу теперь не до Владимира первопрестольного, рад небось, что и в Твери-то оставлен. И на Москве беглого боярина никто не вспомянет, даже родня отвернулась от него.
Всё озлобляло изменника. И то, что братья его и дядья служат честно Дмитрию (выслуживаются!). И то, что великий в мечтах Михаил присмирел (тряпка!). И то, что Мамай столько понаставил сетей неугодным ему чингисхановичам, что и сам уже по забывчивости стал попадать то в одну, то в другую (тоже тряпка — от халата Узбек-хана!). Но только за эту-то восточную тряпку и мог теперь цепляться Вельяминов.
Он ждал год, другой, третий. Развязка наступила лишь в 1378 году. В день победы войск Дмитрия Ивановича над ордынцами у реки Вожи (рассказ об этом сражении впереди) московские ратники поймали на поле боя какого-то бородача в облачении священника. Стали выяснять, почему он оказался в обозе мурзы Бегича. Обнаружили у попа мешок с сушёными корнями и травами, непохожими на корни и травы, какими пользуют больных русские ведуны и знахари. Поп оказался слабодушен и скоро признал под пыткой, что послан Иваном Вельяминовым, а тот сидит в Орде, и там у них великие нестроения.
А вскоре объявился на Руси и сам Вельяминов. Схватили его в Серпухове и срочно доставили в Москву. В «Истории Российской» Татищев сообщает подробности поимки предателя, в летописях не сохранившиеся. Вельяминова удалось схватить благодаря какой-то хитрости, придуманной князем Владимиром Андреевичем, который прознал, что изменник распространяет о нём в Орде клеветнические слухи. Видимо, несостоявшийся тысяцкий не брезговал никакими средствами, науськивая Мамая на московского великого князя и на его двоюродного брата. Заодно клеветою можно было бы подточить завидно прочные отношения дружбы и согласия, отличавшие до сих пор двух внуков Ивана Калиты. Или надеялся Вельяминов, черня Владимира, выслужиться перед Дмитрием, вымолить у него прощение?
Когда-то, по преданию, на месте Москвы стоял двор боярина Кучки. Кучковичи, его сыновья, запятнали свой род участием в злодейском убийстве князя Андрея Боголюбского. Напоминанием о тех событиях осталось на Москве урочище Кучково поле. Оно находилось за великим посадом, на водоразделе Москвы-реки и Неглинной, обочь старой Владимирской дороги. Здесь, на Кучковом поле, великий князь московский и владимирский Дмитрий Иванович повелел казнить боярина Ивана Васильевича Вельяминова, своего двоюродного брата, изменника, подстрекателя и клеветника.
Объявление о предстоящей казни взволновало всю Москву. Многие не ожидали столь беспощадного приговора. Кажется, это была первая гражданская казнь на Москве за всю её историю. По крайней мере, в летописях ни о чём подобном не поминалось ни разу. Но и измены, подобной вельяминовской, Москва ещё не знавала на своём веку!
Н. М. Карамзин, живописуя событие на Кучковом поле, пишет, что московский народ «с горестью смотрел на казнь несчастного сего сына, прекрасного лицем, благородного видом». Мы не знаем ничего о том, каков был собою Иван Вельяминов. Похоже, что, изображая его внешность, историк дал в себе волю писателю. Впрочем, тут, возможно, заключена и особая прозорливость, знание тайн людского естества: изменники почему-то нередко обладают именно прекрасной наружностью. Не потому ли им и удаётся подчас очень многое, что они соблазняют людей своим «благородным зраком»? Политическое распутство иным незрелым душам может даже показаться занятием увлекательным: измену все обсуждают, имя изменника — у всех на устах, в любой толпе сыщутся у переметчика сочувствующие и воздыхатели.
Казнь Вельяминова явилась соблазном для многих. И, как следствие этого, она оказалась исключительным испытанием для Дмитрия. Но он не имел права думать только о сегодняшнем дне — о плаче и стенаниях на боярском дворе Вельяминовых. Он обязан был помнить день вчерашний: плач, вопли и гибель сотен русских людей — страшные последствия единичного предательства. Он обязан был думать и о дне завтрашнем — о соблазнительности «прекрасного» облика измены, не пресечённой со всей строгостью.