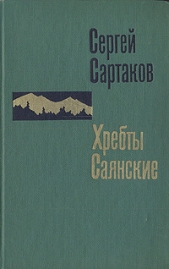Философский камень (Книга - 1)

Философский камень (Книга - 1) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Понимаешь, я уж перепугался, не утащил ли вас к себе Баал-Зебуб! Пропали в темноте, и ни звука. Час целый!
- Так уж и час?
- А ты думал... Между прочим, мне показалось, что вы целовались.
Вацлав промолчал.
На спуске к Национальному музею они остановились. Кругом было тихо, безлюдно. Дома смотрели темными, мертвыми окнами. Только справа, далеко на Главном вокзале, иногда вскрикивали тонкие паровозные свистки и мягко позванивали буфера.
Острые башенки музея, казалось, растворялись в черных облаках, низко нависших над землей. Вацлавская площадь внизу туманилась в бледном сиянии.
Пересекая площадь наискось, медленно проехали два конных полицейских. Цокот подков отчетливо доносился уже с боковой, Штепанской улицы.
- Что ты чувствуешь, когда смотришь на эту площадь? - неожиданно спросил Шпетка. - Она же Вацлавская! И этот памятник... Он тоже Вацлаву.
Все еще слышен был затухающий вдалеке тонкий цокот подков.
- Как тебе ответить, Алоис, - после долгой паузы проговорил Вацлав. Зачем ты это спрашиваешь? Потому, что я русский? И назвали меня Вацлавом чехи? Да, я не могу совершенно забыть Россию и не могу забыть, что раньше я назывался Виктором Рещиковым. Но теперь моя родина - Чехословакия, и Прага моя столица, и Йозеф Сташек - мой отец, и святой Вацлав - мой покровитель. Я буду верен всему этому!
- Н-ну, когда я тебя спрашивал, я вовсе не собирался проверять твой патриотизм. Я же не тайный агент! Мне просто подумалось: Вацлав - Вацлавская площадь, самая главная площадь... Как это отдается в душе у того, кто носит такое имя? Вот подошел бы я, например, к какому-то маленькому перекрестку, а там прибита светлая табличка: "Шпеткова улица"... Да я не сошел бы с этого перекрестка, там бы окаменел! Положи мне в банк на текущий счет сто тысяч крон, я бы прыгал козлом! А перед Шпетковой улицей упал бы на колени. Ты понимаешь меня?
- Не очень, но понимаю.
- Выходит, ты бы не стал на колени?
- Видишь ли, Алоис, для меня и улицы и площади все-таки обыкновенная земля. Ее топчут ногами люди, не читая табличек, прибитых на углах, и не думая о тех, чьим именем они названы. Вот даже ты сейчас говоришь "Вацлавская площадь", но ты ведь не думаешь в эту минуту ни обо мне, ни даже о святом Вацлаве!
- О тебе не думаю, - признался Шпетка, - потому что знаю точно: не в твою честь так названа площадь. А о святом Вацлаве думаю. Тысячу лет помнится его имя. Тысячу лет воздает ему почести чешский народ. А за самого Вацлава все же обидно: не он, а только холодная бронза смотрит на эту площадь. Вот так и Шпетка готов превратиться в бронзу. И тоже обидно: ведь не при жизни! - Шпетка лукаво прищурился. - А здорово было бы посмотреть на табличку "Шпеткова улица". А?
- Вот теперь уже ничего не понимаю. Посмотреть из честолюбия?
- Из уважения к себе. А жизнь свою - пришлось бы - отдал народу из-за любви к нему. Как святой Вацлав. Если, конечно, верить истории, что именно так отдал свою жизнь этот святой.
Вацлав потупился, носком ботинка вычертил на брусчатке мостовой замысловатый зигзаг.
- Но это же громкие слова, Алоис, и, в общем-то, пустые, - сказал он с сожалением. - Когда люди расстаются с жизнью своей, они не думают о народе, а просто в страхе умирают.
Шпетка растопыренными пальцами поворошил волосы, широко, во весь рот улыбнулся.
- Нет, а я подумал-подумал - все же хорошо, если скажут: "Живу на Шпетковой улице". "Пошел гулять по Шпетковой улице". Пусть даже не думая, что этот самый Шпетка именно я, и этого Шпетки давно уже нет на белом свете, и этот Шпетка хотя, может быть, умирал и в страхе, а все-таки не забывая о том, что он человек и, следовательно, принадлежал своему народу. Чем больше топчут люди землю, тем прочнее сохраняется память о человеке, именем которого эта земля названа. Улица - хорошо! Улица всегда движется. Люблю движение!
Он расхохотался. Засмеялся и Вацлав. Спор на этом и оборвался. Пошли молча. В молчании вступили и на площадь, гулкую в ночной тишине.
Памятник великому королю был покрыт сильной росой; капли воды стекали по бронзовым щекам статуи, и казалось, что святой Вацлав плачет. Плачет оттого, что хотя и конь его нетерпелив, и сам он силен, а сдвинуться с места они не могут, даже единого шага не могут сделать вперед.
16
Время было позднее, глухая ночь, в доме горел огонь. "Дедечек" спать еще не ложился. Вацлав открыл входную дверь своим ключом. Чтобы пройти к себе в комнату, надо было миновать кабинет патера, по обычаю, легонько стукнуть в тонкую филенку и пожелать старику приятного сна. Ничего в этом доме не могло делаться крадучись.
Стучаться Вацлаву не пришлось. Дверь в кабинет стояла полуоткрытой. "Дедечек" сидел в потертом кожаном кресле за письменным столом, где, кроме серебряного распятия, настольной лампы под зеленым абажуром да аккуратно уложенной стопки книг, больше ничего не было. Старый патер любил во всем простоту и порядок. Едва только Вацлав ступил в полосу света, падающую поперек коридора, старик поднял голову и окликнул его:
- Ты можешь зайти ко мне на одну минутку, мальчик мой?
- Да, конечно, дедечек, - сказал Вацлав, входя. - И прошу у вас прощения, что так поздно сегодня возвращаюсь домой.
- Ты не в первый раз очень поздно возвращаешься домой. Почему, я тебя об этом не спрашивал. Не спрашиваю и сегодня, хотя нынче и совсем уже близится утро. Когда молодые умные люди очень поздно возвращаются домой, это чаще всего значит, что они политические заговорщики или распутники. Последнее я отвергаю, ты, Вацлав, выше этого, я верю: ты время проводишь достойно. Иди поужинай. Пани Марта сегодня приготовила кое-что вкусное. Но, милый Вацлав, мне все же немного грустно. Извини, только ради этих слов, которые не могу не сказать, я и попросил тебя зайти. Ступай! Да хранит тебя Мария-дева!
Вацлав стоял в замешательстве. Так уж принято в этой семье - во всем быть между собой совершенно откровенными.
И когда приезжали сюда папа Йозеф с мамой Блаженой, они считали первейшей своей обязанностью рассказать о всех больших и малых делах, происшедших на пивоваренном заводе, о личных своих замыслах на ближайшее и далекое время. И когда он, Вацлав, приезжал к ним, он тоже прежде всего до самых мелочей пересказывал все пражские, домашние новости. И когда приходил из университета домой, во всех подробностях делился с "дедечком" впечатлениями дня. Он знал все мысли, настроения, которыми живут старшие, и они тоже знали все его мысли и настроения. Не знали только одного: какой жизнью Вацлав живет в те вечера, когда возвращается домой глубокой ночью.
Он нарушал сейчас самое главное правило семьи. И не нарушать его тоже не мог. Ведь не расскажешь со всей откровенностью "дедечку" Сташеку, ревностному служителю католической церкви, о своем увлечении черной магией.
Патер сидел в кресле, полуприкрыв ладонью глаза. Вацлав все еще колебался, не зная, как ему поступить.
Да, можно старику ничего не рассказывать. Его слова: "Ступай! Да хранит тебя Мария-дева!" - освобождают от такой обязанности, они произнесены в самом конце разговора. Но были ведь и другие слова: "Милый Вацлав, мне все же немного грустно". А это - приглашение к откровенности.
Как поступить? Уйти и оставить на сердце этого доброго человека тягчайшую обиду? Или грубо солгать, тем самым исключив себя из общего для всей семьи нравственного круга? Солгать сейчас - лгать и всегда потом. А рассказать откровенно...
- Со Шпеткой мы провожали Анку Руберову.
Это была правда. Эта правда бросала какую-то тень на Анку. Но Вацлав умышленно подчеркнул, что провожал он Руберову вдвоем со Шпеткой. Значит, просто бродили по ночной Праге веселой компанией.
Старик сидел, откинувшись на спинку кресла, по-прежнему сухой ладонью, точно козырьком, прикрывая глаза от зеленоватого света лампы. Он даже не пошевельнулся, словно бы объяснения Вацлава не принесли ему ни малейшего удовлетворения. И Вацлав понял: нехорошо. В его ответе "дедечку" не хватало главного - откуда они провожали Анку.