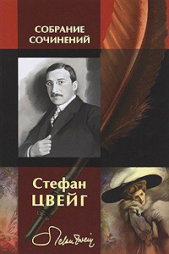Поезд на третьем пути
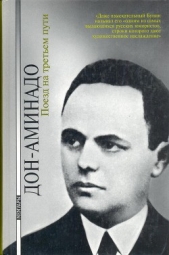
Поезд на третьем пути читать книгу онлайн
ПОЕЗД НА ТРЕТЬЕМ ПУТИ - серьезная, даже грустная книга: она воскрешает быт русской провинции начала XX века, полную обаяния жизнь литературной и театральной Москвы десятых годов и пронизанное отчаянием существование русских эмигрантов в прекрасном и все-таки чужом для них Париже.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так оно и случилось
Напрасно бегали к Подбельскому, бывшему члену правления союза журналистов, а ныне Комиссару почт и телеграфов.
Ходили целой депутацией к В. Н. Фриче, бывшему председателю того же Союза, а ныне Комиссару Московской Коммуны по иностранным делам.
Оба сановника только руками замахали, - отвяжись, нечистая сила!..
Не помогло и вмешательство прославленной балерины, бывшей солистки Его Величества, а в будущем заслуженной Народной солистки.
Непроданные номера газеты были конфискованы, матрица Михаила Валерьяновича уничтожена, набор рассыпан, типография реквизирована для нужд "Красного Огонька", а "Раннее утро" закрыто.
А из злополучных частушек, которых и сам автор не помнит, удержалась в памяти только одна, и то сказать, вполне безобидная:
Веры истинной оплот
Укрепляет души:
Очень ловко Центрофлот
Держится на суше.
Состав преступления - оскорбление величества - был налицо.
***
Впрочем всё это были только присказки, а сказка была впереди.
Погода, климат, выносливость, дух сопротивления, - всё это портилось.
Улучшались только рессоры и пружины советского режима, механизм участковой милиции, Всероссийская Чрезвычайная Комиссия, отряды китайцев и латышей, и всей преторианской гвардии.
Феликс Эдмундович Дзержинский питался одной морковью, иногда свёклою, а трупную падаль только обонял, и тоже нервно почёсывал свою мягкую шатеновую бородку, еще сам не зная и не ведая, что у него золотое сердце, которое, спустя недолгий срок, открыл великий сердцевед, Алексей Максимович Горький.
Но вообще говоря, все еще были молоды и не расстреляны, - и Зиновьев, и Каменев, и Рыков, и Бухарин, и Киров, и Троцкий, и Коссиор, и Чубарь.
А Маленкову и Жданову не было и тринадцати годов отроду.
Всё было впереди, - и лучезарное будущее, и цынга, и голод, и "Двенадцать" Блока; и чёрный малахитовый мавзолей; и Аннибалова клятва братьев писателей над гробом Ленина; и шествие маршалов, маршалов, маршалов; и прорытие каналов, каналов, каналов; и "подвиги, и доблести, и славы"...
А жизнь все-таки продолжалась. И как сказано в "Воскресении" Толстого:
"Как ни старались люди... изуродовать ту землю, на которой они жались; как ни забивали её камнями, чтобы ничего не росло на ней, как они ни счищали всякую пробивающуюся травку... - Весна была весною, солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, между плитами камней, и березы, тополи, черёмуха распускали свои клейкие и пахучие листья... Даже на тюремном дворе был свежий, живительный воздух полей, принесенный ветром в город".
Аллегория, разумеется, была далеко не полная.
Но была тюрьма. И была весна - 18-го года.
Только что арестовали Сытина.
За дерзкую попытку обмануть рабоче-крестьянскую власть и получить продовольственные карточки для певчих церковного хора в своём подмосковном имении.
Посадили в одиночную камеру П. И. Крашенинникова.
- За слишком большую предприимчивость по устройству сытинских дел.
И вообще за недавние грехи молодости.
- За "Вечёрку", - так сокращенно называлась шумная и не очень уважаемая, но имевшая большой тиражный успех, особенно в годы войны, - ежедневная газетка "Вечерние новости".
За "Трудовую копейку", за "Женское дело", за целый ряд других листовок, календарей и альманахов, которыми кишмя кишело на Большой Дмитровке издательское подворье Петра Иваныча, краснощекого, черноглазого, чернобородого и белозубого присяжного поверенного, предпочитавшего полную неизвестностей, возможностей и неожиданностей недисциплинированную вольницу полулитературного рынка чинным регламентам и строгим уставам сословной адвокатуры.
Надо сказать, что при всём том, писателей и литераторов, профессиональных газетчиков и журналистов еще покуда не трогали.
И не столько из соображений такта, или особого к ним уважения, или какого-то мистического целомудрия, а больше по тем же легендарным причинам, кои, как принято считать, всегда предшествуют образованию Космоса.
Ибо советский Космос, как и библейский Космос, возник из распутного и разнузданного Хаоса, из первобытного, бесформенного, безмордого месива солдатни и матросни, и сотворение ленинского мира хотя и произошло в один день, но такие высокоценные детали, как миропомазание Маяковского, раскаяние Эренбурга, и удвоенные пайки для Серапионовых братьев, - всё это появилось не сразу.
Ничего поэтому удивительного не было и в том, что так называемые труженики пера, попавшие в категорию первых беспризорных, оказались по полицейскому недосмотру в некоем неестественно-привилегированном положении и, разумеется, не преминули этой кратковременной привилегией воспользоваться.
Газеты рождались явочным порядком и, как однодневные мотыльки, бесследно исчезали по безапелляционному, с претензией на церемонную законность, постановлению Комиссариата по" делам печати.
Одним из неугомонных пионеров "газеты во что бы то ни стало" был В. Е. Турок, сотрудник закрывшегося навсегда "Русского слова", талантливый журналист, писавший под псевдонимом Вилли.
Нарочитая несерьезность этой подписи, как и множества, если не большинства других псевдонимов того времени, была, надо думать, "созвучна эпохе", только что отзвучавшей.
Отношение к цензуре, к цензурным комитетатам, Главным Управлениям, Особым присутствиям, и прочим достижениям шефа жандармов Бенкендорфа и великого инквизитора Победоносцева, было по преимуществу сугубо-ироническим, не без намеренного верхоглядства - ты меня за бока, а я тебя свысока!..
И во всех этих кличках, прозвищах, псевдонимах была, конечно, какая-то непочтительная, инстинктивная ужимка, поза, гримаса.
Гримаса "человека, который смеется", и смехом этим защищается.
Даже нововременский Сыромятников назывался Сигма, и сам Буренин был Алексис Жасминов.
А о так называемой либеральной печати и говорить не приходится.
Все эти Альфы и Омеги, Пессимисты и Незнакомцы, Санхо-Пансо и Дон-Кихоты, провинциальные Трубадуры, Лоэнгрины, Железные Маски, Офени, Иваны Колючие, Незнамовы, Бурсаки, Безродные, Непомнящие, Ивановы-Классики, Тарелкины, Чертопхановы, Страшноватенки, и столичные Глоб-Троттэры, Пэнгсы и Домби, а имя им - легион, все они, кто умно, кто убого, кто с блеском и талантом, кто с потугами и тщетой, хуже, лучше, с искрой, без искры, с огоньком, без огонька, но каждый по-своему, и все купно, часто в бровь, но нередко и в самый глаз, как могли, как умели, кому как Бог на душу положил, и всё же по большей части честно и неподкупно боролись, протестовали, намекали, доказывали, казнили презрением, многозначительно замалчивали, и как, не щадя живота, злоупотребляли цитатами, кавычками, восклицательными знаками, а пуще всего многоточием!..
Так вот этот самый Вилли, один из легиона, торжествующий и возбуждённый, влетает однажды в столовую еще не закрытого, но бездействующего Союза Журналистов в Столешниковом переулке и, как бомба, взрывается у нашего стола, уставленного чайными стаканами с морковным чаем и одним кружочком вялого лимона на всю братию.
- Владимир Евсеич, что с вами? Откуда? От следователя? От комиссара? Вызывали? Допрашивали? На вас лица нет!..
- Как это так лица нет?! - поднял голос Петр Потемкин, по уши влюбленный в заведующую буфетом Любовь Дмитриевну, и поэтому находившийся всегда за стойкой и всегда в приподнятом состоянии духа,- да, посмотрите на него, - и П. П. стал преувеличенно театральным голосом декламировать:
- Лик его ужасен, движенья быстры, он прекрасен, он весь как Божия гроза!..
Надо думать, что Потемкин был прав, ибо все немедленно согласились, что, действительно, лик его ужасен, и что случилось нечто гораздо более важное и необыкновенное, чем вызов к комиссару или следователю.
Вилли продолжал раздувать ноздри, тяжело дышал, сопел, отхлебнул принесенного Потемкинской Музой какого-то подозрительного квасу, и, отдышавшись, торжественно объявил: