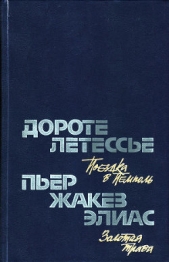Год на севере

Год на севере читать книгу онлайн
Эта книга - "Год на Севере" открыла целую эпоху в североведении, о чем свидетельствует огромное количество переизданий данного произведения. Яркий, живой язык писателя, использование местных диалектных слов и подчас доскональное знание исторических источников делают этот труд выдающимся в своем роде памятником русской публицистики. Книга написана по результатам северной экспедиции С.В. Максимова в феврале 1856 - феврале 1857 годов, организованной Морским министерством для сбора этнографических и исторических сведений о поморах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Четверо гребцов прекрасного пола, как объясняли мне, служили на этот раз заменою пары лошадей (кормщик, стало быть, правил должность ямщика) на том основании, что горою по-здешнему, или берегом попросту, летом ездить нет никакой возможности. Огромные гранитные скалы, наваленные грудами без всякого порядка, глубокие щелья, выстланные болотными, не поднимающими даже легкую ногу оленя, зыбунами, залегли на всем пространстве беломорских прибрежий. Они обеспечивают, таким образом, возможность ездить только морем, вблизи берегов, на карбасах, почтовых или на обязанных, так называемых обывательских.
Таким путем ездит почта от селения Унежмы (на Поморском берегу) до Колы. Так же точно ездят и чиновники земской полиции по Терскому берегу. Естественно, что особенных удобств в этом способе переездов не предвидится. Низенькая, наскоро гнутая и неладно прилаженная кибитка не дает возможности принимать иное положение, кроме сидячего (и то в редких, счастливых случаях), или полулежачего на подстилке, заменяемой в некоторых случаях шкурою белого медведя или оленьей постелью. В большей части других случаев подстилкой служит просто ворох сена, накрытый рогожкой или старым, рваным и отслужившим свой век парусом. Вылезти из этой берлоги на свежий воздух — помешать гребле: карбас короток и узок; поветерье — не всегдашнее подспорье в морскихплаваниях. Лежать под навесом — истощить весь последний запас терпения и иметь неприятность слышать тяжелый запах одуряющей трески, которою (на два дня) запасаются гребцы на случай того несчастия, когда крепкий ветер и сильное волнение посадит на голую и бесплодную луду. Одним словом, скучнее, бесприветнее прибрежного плавания в карбасе трудно вообразить себе что-либо другое. Однообразно покачиваются вперед и назад, упираясь на весла, гребцы — девки да бабы, когда спокойно море и не заводится ни один из ветров, или ходит один и вечный, но настолько слабый, что не способен даже слегка надуть парус. Завизжат гребцы от скуки песню и разведут ее на многие версты, на долгое время, чтобы спорилась работа и уходило вперед докучно-навязчивое время. Подпоет им козелком всегда сосредоточенный на своем руле кормщик. Слушаешь эту песню, привыкаешь к едва выносимому визгу, но удовлетворяешься немногим, она почти все та же, что и в дальних местах Великой России. Не услышишь этой песни под воскресенье, не допросишься и ничем не умирволишь гребцов на праздничную песню на середу и пятницу по вечерам, а тем более ночью, на этот раз коротенькою светлою, полярною. Песня в таких случаях, и то только на настойчивый спрос и просьбу, заменяется плаксиво выпеваемой стариной про Егорья — света храбра, про Романа Митриевича млада, про Царя Ивана Грозного, про сон Богородицы и про другое прочее. Но зато уже таких былин нигде, кроме Севера, не услышишь.
Начнется (падает, завяжется, по туземному говору) ветер — гребцы выберут весла на карбас, наладят два косых паруса, недавно только в народном употреблении заменивших прямые, тяжелые, несподручные. Зарочат (закрепят) они шкот и дадут свободу по воле и прихоти ветра бежать утлому карбасу по широкому, неоглядному приволью моря. Весело сидится тогда на суденке, ничто не увлечет под тот навес, который даже плохо защищает от дождя...
Общая и безграничная радость для всех наступает в то время, когда, наконец, зачернеет в береговой темени устье реки и расширится оно с своими недальними берегами, обещая за следующими наволоками, за дальними коленами реки, верстах в 5, 6, 10 от моря, вожделенное селение, взятое решительно с бою идолгим утомительным трудом сколько для гребцов, столько, кажется, и для седока, известного обыкновенно под общим именем «начальника».
Весело на этот раз смотрит деревушка, раскинувшаяся по обоим берегам всегда порожистой, всегда, следовательно, шумливой реки, с опрокинутыми карбасами, с доживающими последние дни негодными лодьями, шняками, раньшинами. Приветливо машут флюгарки, во множестве укрепленные на высоких шестах, прислоненных к амбарушкам, построенным у самой воды. Гостеприимно глядят и двухэтажные избы и старинная, всегда деревянная церковь. Лают собаки, кричат и плещутся в реке маленькие ребятишки.
То же точно испытываешь и в первой деревне от Кеми — Летней. То же и во всех остальных селениях Карельского берега.
Летняя деревня (на мой приезд) значительно обезлюдела: все обитатели ее ушли на Мурман за треской, по найму от богатых поморов Кемского берега: кемлян и шуеречан. В сентябре вернувшись домой, они до 1 марта живут в деревне. Некоторые уходят, впрочем, на Терский берег, на подряд за семгой, недель на пять. Тогда же оставшиеся дома бьют на льдах нерпу: но промысел этот не составляет для них особенной важности и производится почти исключительно от нечего делать, ради страсти попытать счастья и изведать приключений. Семгу ловят по взморью (в реку она не заходит), а в реке добывают сельдей и сигов, но исключительно для домашнего потребления. Редкий сеет жито (ячмень) и то понемногу. Дальше, севернее Летней, хлеб уже не родится, и не делается даже никаких попыток к тому. Летняя, как и все остальные деревни и села беломорского Поморья, выстроилась в нескольких верстах от моря, по той причине, чтобы и во время прилива морской воды иметь под руками годную в питье пресную воду, и для того же, чтобы укрыться за прибрежными скалами от сильных непогодей, всегда гибельных по зимам и осеням...
Село Ке́реть едва ли не самое лучшее из всех селений Карельского берега. Сбитое в кучу и раскиданное на значительном пространстве по горе и под горою, оно пестро глядит обшитыми тесом и выкрашенными двухэтажными избами. Множество амбарушек, не развалившихся, запертых неломанными замками, приютились к реке и пристани. Самая река Кереть, по обыкновению, также порожистая и, стало быть, шумливая и богатая семгой, как и другие беломорские реки, глядит как-то празднично: у прибрежьев ее, ближе к устью, качается не одна, но пять лодей, и не гниющих за давностью лет и невозможностью быть употребленными в дело, но с наложенными снастями, с живыми людьми на палубе. Между этими крупными и безобразными судами видятся две шкуны, красиво срубленные по верному, толковому чертежу, а не доморощенным путем, и, видимо, умным хозяином, который изменил (на общий пример и благое поучение) закоренелый обычай прадедов держаться лодей и шняков допотопной конструкции и вида. Если прибавить ко всему этому казенные винные подвалы, соляной и хлебный амбары, то село Кереть можно решительно назвать посадом, по крайней мере в том смысле, как понимается посад или безуездный город дальней России.
Случай привел меня в двухэтажный зеленый с мезонином дом туземного богача и дал мне возможность видеть, какою роскошью (относительно) обставляют себя эти богачи-монополисты. Несколько чистых, светлых комнат с крашеными полами глядят празднично; шпалеры, оклеивающие стены, недурного рисунка, хотя и поразительной пестроты и яркости. По внешнему виду комнат можно заключить, что хозяин купец и придерживается старины, если принять во внимание, что все иконы с позолоченными ризами старинного письма, что под киотом, на тябле, стоит ручная курильница, святая вода в бутылке, псалтырь старинного издания (во Львове) и ни одной просфоры ни тут, ни в киоте. Не видать и прошлогодней вербы, не видать и первокрестного пасхального яйца. Комнатные двери — расписные; на столах клеенки; по стенам лучшего издания портреты царской фамилии; четверо часов, из которых одни, с кукушкой, старинные, и другие густого звона и последнего рисунка, выписанные из Петербурга; много шкафов со стеклами, завешенными ситцевыми занавесками, набитых доверху фаянсовой и фарфоровой норвежской посудой; много зеркал, также, вероятно, вывезенных из Норвегии; старинные диваны и стулья — жесткие, с высокими спинками. Между печью и ближней стеной, за ситцевой занавеской, чистый, светлый медный рукомойник над тазом и белое, какснег, полотенце. Все это бросилось мне в глаза и приятно радовало подробностями, чистотою и своеобразием. Видно было, что живет здесь купец, и купец богатый. Наконец, явился ко мне и сам он, с лукавой, умной усмешкой с ласковым словом и приветом, в синей сибирке и смазных, ужасно скрипучих сапогах. На огромном, полновесном серебряном подносе принесла из притворенной хозяйской комнаты чай с лимоном, сливками, архангельскими баранками, при поясных, низких поклонах, сама хозяйка в белом ситцевом с цветочками платье — безобразно толстая баба, расплывшаяся как опара или гриб-дождевик. Началось питье чая до седьмого пота. Тотчас же за чаем явилось угощение пирогами, всеми сортами соленой беломорской рыбы. Тут же — откуда ни взялись — явились и кедровые орешки, и вяземские пряники, и изюм, и еще что-то. Все это надо было есть, чтобы не обидеть отказами хозяев и чтобы, наконец, себя самого избавить от поясных поклонов и докучных просьб того отведать, этого хоть пригубить, к этому призорец оказать; все это — говоря короче — напоминало мне здесь Волгу и ее хлебосольных жителей. Наконец, также по обыкновению, после обеда, хозяин утопил меня в высоких, мягких пуховиках и вышел на цыпочках вниз, где на то время, как помнится, замолчал, вероятно, по его же приказу, и ткацкий станок, и какое-то строганье и пиленье...