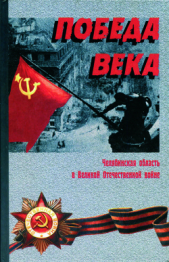Тяжело ковалась Победа

Тяжело ковалась Победа читать книгу онлайн
В повестях «Крест», «После войны», «Свой человек в столице», «Песня над озером» автор показывает трудовой и боевой вклад народа в Победу над фашизмом. В рассказах «Смертию смерть поправ», «Товарняки шли на проход», «Женихи» нарисована устойчиво сложная обстановка в стране. В годы Великой Отечественной войны гражданин и воин переживали за исход любого сражения, как за личную судьбу, ловя каждое слово сводки Совинформбюро, думая о близких, – волновались, находясь в одном сильно напряженном биополе страны. Все для фронта! Все для Победы! Это был один лозунг на все годы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Солнце уже от земли оторвалось, синеву чуть-чуть разогнало. Но видно еще плоховато было. Дрались не на одном месте, а петляли: кто отбежит, кто наскочит, а кто и навзничь летит. Снег на середине реки весь перемесили, рубахи исподние разодраны: у кого в крови, у кого клочьями болтались.
Я за Петей да за родителем все больше приглядывала, а Дуська – за Митрием да за Федькой. Надо же, втюрилась в паразита мордатого, как Марфуша. Так мы и лезли по глубокому снегу за ними вдоль берега: то вскрикнем, то ойкнем, то глаза зажмурим – жуть ведь одна, как дрались. Не углядеть было за всеми – растянулись по льду сажен на двадцать. И вдруг родитель мой благим матом заорал, какого я отродясь не слыхивала, аж сердце зашлось. А он опять на всю-то реку: «Максим!!!»
Не помню уж, как я с кручи летела, снег аж до горла набился под шубенку. Слышу, и Дуська за мной пыхтит. Подлетаем это мы к ним, у меня аж дух захватило – словечко вымолвить не могу. Все стоят, а родитель мой у проруби сидит и кусочки льда со снегом из воды выбрасывает. Я тут же на колени – и давай помогать сдуру-то. Вода в проруби еще колыхалась, и белый парок шел. И такая шальная мысль меня кольнула, что аж дурно стало. Подняла я ошалелые глаза на мужиков. Петю ищу, а они все, избитые до крови, стоят понуро один возле другого, ровно и драки не было, только плечи вздымаются. Не успела я еще и дух перевести, меня как чем обдало – я от испуга так тут и села. Из проруби Петина голова вынырнула. Он красную руку на лед выбросил, голову откинул и обмяк – не отдышится. От радости я хотела к нему кинуться, но меня тут же за косы оттащили. Мужики вмиг выхватили его и Максима из проруби. Дуська уж меня подняла. Так мы и простояли в сторонке, пока сибиряки Максима откачивали да Петю растирали. Сибиряк тонконосый жеребца подогнал, тулупы в розвальнях раскинул, закутал в них Петю и Максима и погнал в деревню.
Под вечер сибиряки к нам понаехали. Да еще знахарку какую-то привезли с собой. Она все Максима отварами поила да терла, пока ему уже и рвать нечем стало. Три дня они у нас гуляли. Огромную свиную тушу привезли да самогона несколько четвертей. Я уж готовить им устала. А на четвертый день и Максим поднялся, вместе с ними гулял.
Петю все больно хвалили: «Кабы не Петр, плохо бы дело было, паря». Тут уж и родитель мой смягчился: обнимал его, целовал, вторым сыном называл… Слава Богу, думала, признал, знать. Столько уж радости у меня было – не передать.
– А как они в проруби оказались? – спросил я.
– Сибиряки лошадей поили на переезде, вот прорубь и расчистили. Они не думали, что сюда драка докатится. Это уж Петя мне опосля обсказал. Максим не очень любил вспоминать. Подъезжаем, говорил, это мы к реке, видим: на другом берегу лошади, внизу сибиряки в тулупах. Поджидали, знать. Не то робость, говорил, не то волнительность какая нашла – жмемся в кучку. Ну а как увидали, что сибиряки тулупы скинули и на середину реки пошли, где что-то черное лежало – не то шуба, не то еще что, так и мы двинулись. Отец наш, мол, впереди, Максим к нему плечом, а он к Максиму, с другой стороны – Мордюков с Федькой да Столбов с Иваном, а за ними – Колесов с Митрием. Иду, говорил, и глаз от сибиряков оторвать не могу, а самому чей-то неспокойно – плечом так Максима и тычу. Отец, дескать, еще сказал: «Не робей, робята!»
И пошел, поторапливаясь, и мы за ним, а в ногах уж и удержу нет – чуть не в пробежку идем. Вижу, говорил, прямо на меня прет широкоплечий сибиряк и странно как-то эдак согнутые в локтях руки выворачивает. Только, мол, я и разглядел на его широкоскулом лице одну рыжую бровь от виска до виска, а он тут же раскрыл большой красный рот да как заорет: «Лупи синюшников! Язви их душу!» И во мне, мол, столько зла поднялось, что я и себя не помню. Схватились это мы с ним, а он как швырнет меня, так я и отлетел. Вскочил и тут же опять на него кинулся. Бил он меня, швырял, пока мочи у него хватило. Вижу, сказывал, у него только одну рыжую бровь, а сам на него все кидаюсь и кидаюсь. И почуял я, что он уставать начал. Тут я изловчился и что было мочи ударил ему под грудь. Он аж согнулся от боли, но успел схватить меня, и вместе упали на лед.
Вот тут, мол, я и услыхал крик родителя. Екнуло, говорил, в груди – смекнул, что беда стряслась, подтянул ноги и отшвырнул сибиряка. А как вскочил да увидал, что все у проруби собрались, враз догадался. Вдохнул грудью – и вниз головой между мужиками в прорубь, пока Максима течением не отнесло. Обожгло, мол, как кипятком, аж глаза резануло. У самой проруби еще чуток видать, поблизости – мол, всматриваться пришлось, как в ненастную ночь, а уж подальше – сплошная темень. Вижу, мол, как из ночи в темень не то бревно, не то рыбина какая шевельнулась. Он три маха вгорячах – и прямо на ощупь успел схватить. Вот ведь беда какая…Это еще счастье наше, что они мальчишками наловчились из глубины в обруч выныривать…
– Кабы не этот случай, родитель бы век не признал Петю. Жили они с матерью бедненько. Отец у него еще в казенном бараке для переселенцев поблизости от Новониколаевска помер, пока мужики место для деревни подыскивали. Известное дело, какое хозяйство у одинокой женщины на новом месте могло быть? Так она и жила – все чего-нибудь у мужиков попрошайничала. От этого, видать, родитель мой и невзлюбил их. Этот дом уж я с Максимом поставила, – оглядела баба Маня потолок. – Правда, лес еще Петя заготавливал… Да, где-то тут же, как праздники прошли, Федьку в солдаты и забрали. Посмотрели они еще друг на дружку, ровно зверье, и разошлись.
Потом Петя в дом к нам похаживать стал, и на улице, бывало, постоим – не таились. А о свадьбе родитель мой, Тимофей Степанович, царство ему небесное, и думать не желал. Петя иногда к нам придет, со мной постоит, с Максимом посидит, а как родитель в дом, он к порогу. Родитель сядет на лавку и смотрит на него, а он стоит шапку мнет. «Ну, – скажет Тимофей Степанович, – че топчешься, как петух на насесте? Рано еще ей… Пущай поневестится». Петя и уйдет. И я тут же накраснеюсь, а уж ночью ревом реву: обидно. Вроде и не маленькая была, чтоб так помыкать. Видать, он признать-то его признал, но только не женихом. А уж к весне где-то Максим надоел ему своими попреками: Петр, мол, меня с того света вызволил, а ты, тятя, поперек пути их стоишь. Родителя, видать, и самого совесть мучила, но держало что-то. А уж как отсеялись, он махнул рукой и больше не встревал: ваше, мол, дело. Свадьбу справлю, а там живите как Бог даст.
Так вот мы и поженились. Перебралась я к ним в дом, и стали мы жить. Но счастье мое было уж больно недолгим: только сено в стога сметали, забрали моего Петю на германску, и Максима забрали, и Митрия, брата Дуськиного.
– Это с тех пор вы и ждали? – с удивлением спросил я.
– С тех самых, сынок, – закивала баба Маня, глядя в лунное окно. – Кажон день ждала и все думала, что уж ежелив сегодня нет, то назавтра беспременно прибудет. Попервости, пока его годки не приходили, так и я вроде поспокойней была. А когда Митрий воротился (это где-то весной, кажись, было – в ту пору вроде царя скинули), я уж и от окна не отходила. А как Максим пришел, правда без руки, так я уж тут и вовсе покой потеряла: иначе как бегом домой и не шла – терпения не хватало. Двор осмотрю – не сидит ли где, не ждет ли меня, в избу прилечу – не прячется ли, да еще и у свекрови-то спрошу, вроде сама не вижу. А вечером помолюсь, и ночь мне не нужна – скорей бы утро. Вскочу чуть свет – и на улицу: не сидит ли там, не пришел ли. Будить, пожалуй, не захотел. Так вот и прождала, – вздохнула баба Маня.
– Да, – посочувствовал я. – Из проруби вынырнул, а тут не вернулся. Судьба, наверное, баба Маня.
– Как вздумаешь, так и называй, сынок… Домой-то многие поприходили, а жизнь свою тоже не уберегли. Помню, как Митрий Колесов в деревню вернулся: в папахе, шинели – такой, куда там! Все мужиков да баб на Мордюкова науськивал. Где бы ни собрались, его одного только и слыхать. На чурку или на бревно заскочит – и давай руками размахивать. Хватит, мол, мироеда терпеть. Это он Мордюкова так называл. Не сам же, поди, эдакое придумал, небось, взял где. Везде, мол, народ свою власть налаживает, и нам дремать не надо. Уж много позднее мы всякого наслушались – вроде как так и должно быть, а тогда все в диковинку было. Стоим, бывало, вокруг него или сидим, а он знай свое: скотину, дескать, у Мордюкова отымать пора. Вон сколько у него! А сам этак рукой еще и махнет в сторону его дома. И мы сдуру головами-то вертим, будто не знаем, где Мордюков живет. Оставим, мол, ему две коровы да лошадь, а остальных по дворам разведем. Мужики друг на дружку смотрят и понять не могут, как можно чужую скотину со двора вести. А родитель мой, бывало, еще совестить его начнет: негоже, мол, эдак, Митрий, не хошь – не роби, а пошто на чужо хозяйство руку подымашь? Эдак мы один у другого все растащим. А бабы, оно и есть бабы: у них глаза тут же засверкают, как про мордюковских коров начнут шептаться. Открыто только не говорили: боязно, все опасались. Одна Анисья, царство ей небесное, поддакивала, бесшабашная головушка, не терпелось ей корову от Мордюкова привести. Подскочит петушком к Митрию и кричит звонче всех: «Какого лешего ждать?!» Да еще с Ленькой переругиваться начнет. Тот исподлобья эдак поглядит да и скажет: «Не зарься на чужо добро». А она ему тут же и утрет нос-то: «Уж не твоим ли горбом добро нажито?» Дальше – больше, народишко все смелей и смелей стал. Мордюков побаиваться уже начал. А мать – она и есть мать, уговаривала Митрия как могла: «Не мутил бы ты, сынок, царевы порядки. Загодя не узнаешь, как жить придется». А Митрию своего ума хватало, материн совет, видать, лишний был. Недаром говорят, что материнское сердце беду чует, как больной непогоду.