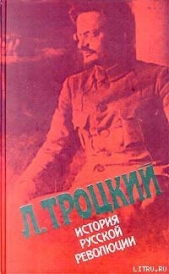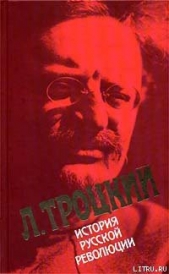Что глаза мои видели (Том 2, Революция и Россия)

Что глаза мои видели (Том 2, Революция и Россия) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И с царицей Коцебу однажды попробовал заговорить на ту же щекотливую тему, он предложил ей: "Ваше Величество, Вы написали бы королеве английской, чтобы она позаботилась о Вас и о детях Ваших".
Александра Федоровна вся встрепенулась, окинула его быстрым взглядом и сказала: "мне не к кому обращаться с мольбами, после всего пережитого нами, кроме Господа Бога. Английской королеве мне не о чем писать..."
Коцебу, подозреваемый в слишком большом мирволении царственным пленникам, вскоре был сменен. На его место, Керенским был назначен Коровиченко, бывший военный юрист, потом присяжный поверенный, во время войны призванный на военную службу. Я знал его довольно близко. Это был симпатичный и мягкий человек, впоследствии растерзанный большевиками в Казани, где он занял ответственный военный пост.
Когда я попенял Керенскому за то, что он удалил от царской семьи Коцебу, который, благодаря своей воспитанности, был здесь на месте, он мне сказал: "ему перестали доверять, подозревали, что он допускал сношения царя с внешним миром. Коровиченко вне подозрений, но он человек мягкий и деликатный, ненужных стеснений он не допустит".
Позднее, когда и Коровиченко кем-то заменили, Керенский, как-то, посмеиваясь, обмолвился: "беда мне с этим Николаем II-м, он всех очаровывает. Коровиченко, прямо таки, в него влюбился. Пришлось убрать. А на этом многие играют: требуют непременно отправить его в Петропавловскую..."
Я резко заметил: "это была бы гнусность..." - Керенский не возразил, и я тут же спросил его: "отчего временное правительство не препроводит немедленно его с семьей заграницу, чтобы раз навсегда оградить его от унизительных мытарств"? Керенский не сразу мне ответил. Помолчав, он как-то нехотя процедил: "это очень сложно, сложнее нежели вы, думаете..."
Когда временное правительство, после значительных колебаний, установило своим декретом отмену "навсегда" смертной казни, я искренно желал, чтобы отрекшегося царя предали суду. Его защита могла бы вскрыть в его лице психологический феномен, перед которым рушилось бы всякое обвинение... А, вместе с тем, какое правдивое освещение мог бы получить переживаемый исторический момент. Нерешительность государя именно в нужные моменты, и, наряду с этим, упрямая стойкость точно околдованного чьей-то волей человека, были его характерными чертами. Будь царица при нем в момент eгo отречения, отречения бы не последовало.
И, кто знает, не было ли бы это лучше и для него и для России. Его вероятно убили бы тогда же, и он пал бы жертвою, в сознании геройски исполненного долга. Но престиж царя, в народном сознании, остался бы неприкосновенным. Для огромной части населения России феерически быстрое отречение царя, с последующим третированием его, как последнего узника, было сокрушительным ударом по самому царизму.
Вся дальнейшая, глубоко печальная участь царя и семьи его, которою он дорожил превыше всего, возвышает его в моих, глазах, как человека, почти до недосягаемой высоты.
Сколько смирения и терпеливой кротости, доходящих до аскетического самобичевания!
Его прадед, Николай Павлович, не вынес простой неудачи Крымской компании, могущей принудить русского царя к невыгодному для Poccии миру. Он считал это для себя позором, и отравился.
Тут, наоборот, человек, способный, по отзыву всех к нему приближавшихся, чаровать людей, человек сохранивший все свое царственное достоинство при всех неслыханных испытаниях, человек-мученик, мученик до конца, беспощадно убил царя.
В каком виде воскреснет когда-нибудь его образ в народном сознании, трудно сказать. На могилу Павла I-го до сих пор несут свои мольбы о затаенных нуждах простые люди, и чтут его, как "царя-мученика".
Мученика, может быть, даже святого, признают и в Николае II-м. В русской душе ореол мученичества, есть уже ореол святости.
Но станут ли в нем искать царя?..
И не навсегда ли упала на землю, и по ветру покатилась, по "святой Руси", искони "тяжелая шапка Мономаха" ?..
ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ.
Люди, не xoтевшие забыть о России, примирившись с фактом совершившимся, готовы были всеми силами поддерживать Временное Правительство с одной лишь оговоркой: "революция для России, а не Россия для революции"...
Поддержку Керенскому, в этом направлении оказали бы, да и оказывали, все широкие общественные круги. Когда он, уже в качестве военного министра и главнокомандующего, проявлял на фронте много энергии и настойчивости для возбуждения энтузиазма в войске, все честные люди были на его стороне и готовы были верить, что может быть еще спасена Россия.
Но одного истерического словоизвержения, как на фронте так и в Петрограде, куда еще были устремлены все взоры России, было слишком мало, особенно когда, наряду с этим, гораздо более жгучее, насыщенное кровожадными инстинктами, красноречие заливало уже все взбаламученные души бродячего российского воинства. Трагикомическое сопоставление напрашивалось само собой, когда приходилось побывать на "народных митингах", организуемых компанией Ленина и затем перенестись в театральную залу, где почти ежедневно устраивались "концерты-митинги", при участи нередко самого Керенского, его сподвижниками.
Там (у пролетариев) все было классически ясно и просто: "надо только объединиться и двинуться на потоп и разорение Poccии, ибо она еще во власти буржуев, в отношении которых "штык в живот" единственный своевременный аргумент. Только покончив с своекорыстною буржуазиею, объединенные пролетарские элементы воссоздадут мир на новых началах всеобщего коммунистического равенства и братства. Пока же задача "товарищей" только расчистить место от обломков старых пережитков. Стань сверхчеловеком: имущих грабь, упорствующих убивай беспощадно. Долой предрассудки морали и религии, которыми буржуазия опутывала народ, чтобы держать его в рабстве".
Изо дня в день все та же отрава, все та же прививка бешенства, брошенной на произвол судьбы, утратившей, с низложением царя, всякую идею о государственной дисциплине, массы.
В театральных же и концертных залах идиллия гастролирующих носителей предвечных освободительных идей, празднующих свержение "тирана".
Все те же, набившие оскомину: Милюков, Родичев, Аджемов, французский гость Альберт Тома и, иногда, истерические вопли самого Керенского, или шамканье "бабушки" Брешковской.
Бешенные аплодисменты, исходящие, по преимуществу, от еврейской интеллигенции, заполнявшей все первые ряды, смакующей свое молодое равноправие. Но, по содержанию речей и выступлений, и бедность мысли и бедность настроения.
Милюков, верный себе, с видом и приемами старшего приказчика, торгующего хорошим товаром ... "Проливы и Босфор" по его мнению, самое нужное сейчас для России.
Говоря это, он с надеждою взирал на ложу дипломатов, где в окаменелых позах, ожидая по своему адресу неминуемых оваций, величественно восседали "заступники" и "союзники" России: Бьюкенен и Палеолог.
Маленький Аджемов, играя брелоками на цепочке своих часов и притоптывая модно обутой ножкой, говорил, однотонно, но весело, о завоевании Poccиeй, путем революции, почетного места среди культурных наций. Родичев, так как не приходилось больше злопыхать против царского правительства, изрекал только банальные истины с обычным напряженным подъемом. Альберт Тома, тот говорил умно, но половина залы его не понимала, хотя с райка иногда ему кричали: "громче"!
Кстати: про Тома сложился анекдот: Уверяли, что когда он покидал Poccию, совершенно обескураженный бесплодностью своей миссии, он обмолвился крылатыми словами: "я считаю Николая II-го гением, раз он умудрился править таким народом в течение 22-х лет".
Появление Керенского и "бабушки революции", особенно на первых порах, встречались грандиозными овациями. Но в самом характере, этих оваций чувствовалось не столько преклонение перед их престижем, сколько потребность создания и поддержания, во что бы то ни стало, какого либо престижа.
От участия в этих публичных выступлениях воздерживались, или, вернее, деликатно были устраняемы, такие, несомненно, талантливые ораторы, как В. А. Маклаков, О. О. Грузенберг и другие, слово которых не подошло бы под общую мерку партийно-революционного шаблона, но было бы умно и, может быть, продуктивно.