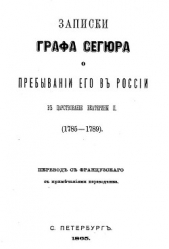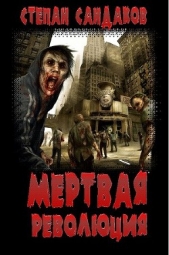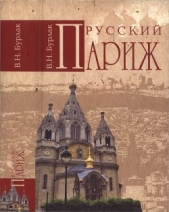Мгновенье славы настает Год 1789-й

Мгновенье славы настает Год 1789-й читать книгу онлайн
Введите сюда краткую аннотацию
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Любопытно, что другой "вселенский деятель" — Наполеон в это время был накануне своего конкордата с папой Пием VII, т. е. акции, близкой к планам Павла. Слухи, разговоры о планах российского императора соединить церкви (и даже принять со временем папскую тиару!) в этом контексте кажутся не лишенными почвы.
Царь-папа, мальтийский гроссмейстер — это и чисто российское поглощение церкви властью ("Вот вам патриарх!" — восклицает в пушкинской интерпретации царь Петр Великий, ударив себя в грудь, когда слышит просьбу духовенства о назначении главы церкви); это и российская аналогия "наполеоновскому направлению": недаром Павел и первый консул столь легко поймут друг друга…
Рыцарская идея Павла порождает определенный тон, стиль, театральность, юмор.
Распекая адмирала Чичагова (сидевшего перед тем в крепости будто бы за якобинство), Павел произносит: "Если вы якобинец, то представьте себе, что у меня красная шапка, что я главный начальник всех якобинцев, и слушайте меня" (шутки насчет собеседника-якобинца, видимо, употреблялись часто).
Насмешливое предложение русского царя всем монархам выйти на дуэль (с первыми министрами в роли секундантов) было опубликовано как бы от "третьего лица" в "Гамбургской газете".
Итак, консервативно-рыцарская утопия Павла возводилась на двух устоях (а фактически на минах, которые сам Павел подкладывал): всевластие и честь; первое предполагало монополию одного Павла на высшие понятия о чести, что никак не согласовывалось с попыткой рыцарски облагородить целое сословие.
Основа рыцарства — свободная личность, сохраняющая принципы чести и в отношениях с высшими, с монархом, тогда как царь-рыцарь постоянно подавляет личную свободу.
Честь вводится приказом, деспотическим произволом, бесчестным по сути своей. В XII–XIV, даже более поздних веках многое в этом роде показалось бы естественным. Однако в 1800 году мир жил в иной системе ценностей, и царя провожает в могилу смешной и печальный анекдот: Павел просит убийц повременить, ибо хочет выработать церемониал собственных похорон.
Притесняя дворян, привыкших в течение долгого царствования Екатерины II к личным свободам, Павел в то же время любил подчеркивать свою народность; разумеется, не зная и опасаясь российской «черни», он, однако, противопоставлял ее французской: та — казнит своих королей, эта — может поддержать своего императора против непокорной знати.
Кое-какие уступки были даны крестьянам, купцам, солдатам; народ по-прежнему жил в тяжелейших условиях, но все же предпочитал Павла умершей его матери: во-первых, царь-мужчина казался более законным правителем, нежели самостоятельно правящая женщина; во-вторых, солдатам и крестьянам доставляло немалое удовольствие наблюдать, как Павел смещает и унижает генералов, офицеров, знатных особ.
Причудливое, зловещее сочетание павловской тирании и «народности» было замечено современниками. Без труда можно выбрать из сочинений разных авторов примерно однородные высказывания и образы.
Гасконец Санглен (при Александре I одно время — многознающий и циничный деятель тайной полиции): "Павел хотел сильнее укрепить самодержавие, но поступками своими подкапывал под оное. Отправляя, в первом гневе, в одной и той же кибитке генерала, купца, унтер-офицера и фельдъегеря, научил нас и народ слишком рано, что различие сословий ничтожно, это был чистый подкоп, ибо без этого различия самодержавие удержаться не может. Если бы он наследовал престол (в XVI веке) после Ивана Васильевича Грозного, мы благословляли бы его на царствование…"
Шведский дипломат Стедингк: "Действительно, самая знатная особа и мужик равны перед волей императора, но это карбонарское равенство — не в противоречии ли оно с природой вещей?"
"Вдруг, — вспоминал чиновник, талантливый мемуарист Ф. Ф. Вигель, — мы переброшены в самую глубину Азии и должны трепетать перед восточным владыкой, одетым, однако ж, в мундир прусского покроя и с претензиями на новейшую французскую любезность и рыцарский дух средних веков; Версаль, Иерусалим, Берлин были его девизом, и таким образом всю строгость военной дисциплину и феодального самоуправления умел он соединить в себе с необузданною властию ханскою и прихотливым деспотизмом французского дореволюционного правительства".
Еще и еще возникают образы "уравнителей и санкюлотов" на троне — парадоксальное российское эхо французских событий.
В 1796 году Екатерина II спрашивала генерала Салтыкова о его воспитаннике и своем внуке Константине Павловиче: "Я не понимаю, откудова в нем вселился такой подлый санкюлотизм" (имелось в виду неуважение принца к аристократам, разумеется не с революционной, а с императорской "стороны"). Царица подозревала дурное влияние Павла.
Пушкин в 1834 году скажет брату царя великому князю Михаилу Павловичу:
"— Вы истинный член вашей фамилии: все Романовы революционеры-уравнители.
— Спасибо, так ты меня жалуешь в якобинцы! Благодарю, вот репутация, которой мне недоставало".
Наконец, Герцен назовет самодержавие XVIII–XIX века"деспотическим и революционным одновременно"; Павел у него действует, "завидуя, возможно, Робеспьеру", в духе "Комитета общественного спасения". Подразумевается огромная, подчас революционная роль той ломки, крутых преобразований, которые начинаются с Петра, производятся в России «сверху»; подразумевается, что мужик и барин в известном смысле равны перед всемогущим деспотизмом.
Якобинство и деспотизм; "равенство злое" и "благородное неравенство". Причудливые, противоречивые обстоятельства последних лет XVIII века приводили к удивительнейшим сочетаниям и парадоксам, когда "все смешивалось".
Je deteste
"Je deteste ie traltre de son roi et de sa patrie".
"Я презираю предавшего своего короля и отечество".
Это первое из дошедших до нас высказываний Матвея Ивановича Муравьева (в будущем — Муравьева-Апостола), которому было тогда лет пять, больше, чем брату Сергею (при том, кажется, присутствовавшему). 1798 год. Место действия — Гамбург, где отец двух мальчиков, 36-летний посланник Иван Муравьев, представляет особу своего монарха.
Высказывание пятилетнего мыслителя в высшей степени примечательно. Оно адресовано уже упоминавшемуся в нашем повествовании знаменитому генералу французской революции Дюмурье, который незадолго до того изменил революции, объявил о своей верности монархии и бежал к неприятелю. Матюша Муравьев слышит, как старшие говорят, что генерал служил сначала отечеству против короля, потом — наоборот; и его не волнуют тонкости — что в тогдашней Франции изменить королю и отечеству одновременно очень мудрено и т. п.
Когда генерал приходит в дом русского посла и пытается приласкать мальчика, он получает свое.
Но заметим — получает на хорошем французском языке, родном и для этого мальчика, и для Сергея.
Но зачем же генерал Дюмурье ходит к Ивану Матвеевичу? А затем, что формально для русского посла любой враг революции отнюдь не изменник, а герой, и из Петербурга велят намекнуть генералу, что в России его ждет благосклонная встреча: очевидно, блестящие победы, которые одерживал Дюмурье над своими сегодняшними друзьями, предводительствуя вчерашними, произвели на Павла впечатление. Выполняя это поручение, русский посол приглашает Дюмурье на обед, но старший сын выдает предобеденные разговоры дипломата!
С поручением Иван Муравьев, однако, справился, Дюмурье поехал к Павлу, но они не понравились друг другу.
Матвея же, конечно, за выходку наказали. Позже он вспоминает о самом себе: "Пятилетний мальчик в красной куртке был ярый роялист. Эмигранты рассказами своими о бедствиях, претерпенных королем, королевой, королевским семейством и прочими страдальцами, жертвами кровожадных террористов, его сильно смущали. Отец его садится, бывало, за фортепиано и заиграет «Марсельезу», а мальчик затопает ногами, расплачется, бежит вон из комнаты, чтоб не слущать ненавистные звуки".