Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера
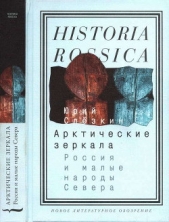
Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера читать книгу онлайн
Книга профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия Слёзкина, автора уже изданного в «НЛО» интеллектуального бестселлера «Эра Меркурия: Евреи в современном мире» (2005), посвящена загадке культурной чуждости. На протяжении нескольких веков власть, наука и литература вновь и вновь открывали, истолковывали и пытались изменить жизнь коренных народов Севера. Эти столкновения не проходили бесследно для представлений русских/россиян о самих себе, о цивилизации, о человечестве. Отображавшиеся в «арктических зеркалах» русского самосознания фигуры — иноземец, иноверец, инородец, нацмен, первобытный коммунист, последний абориген — предстают в книге продуктом сложного взаимодействия, не сводимого к клише колониального господства и эксплуатации.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Они не просто боролись с природой — они сами были «природными», «естественными», не обремененными мелочными условностями и гордо следующими безжалостному закону выживания {513}. «Разве не всегда так в тайге, — рассуждал один из тунгусов И.Г. Гольдберга. — Медведь подстерегает сохатого, и тот со всех своих последних сил отбивается от врага. Волки кидаются на добычу, и она, спасая жизнь свою, идет на все» {514}. Впрочем, такое понимание природы было относительно непопулярным, и «модернисты» начала XX в., которые пытались его воскресить, оставались меньшинством среди ссыльных и путешественников. Для большинства авторов быть естественным по-прежнему значило быть безыскусным, бескорыстным, благородным и, таким образом, подверженным обману и эксплуатации. Опираясь на областническую литературу и приспосабливая народническую тематику к северным условиям, И.Г. Гарин-Михайловский, Д.И. Мамин-Сибиряк, В.М. Михеев, С.Я. Елпатьевский, В.В. Передольский и В.Л. Шишков оплакивали вымирание «доверчивого дикаря» и сожалели о его угнетенном и невежественном состоянии {515}. «Да, его гоняли всю жизнь! Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод, гоняли морозы и жары, дожди и засухи; гоняла промерзшая земля и злая тайга!» [53]
Интересным и продуктивным компромиссом между чукчей-ирокезом Богораза и туземцем-горемыкой Шишкова стал Дерсу Узала, нанайский охотник, который был одновременно независимым и верным, прозорливым и беззащитным, вечным и обреченным. Будучи проводником у партии российских разведчиков, Дерсу знакомит своих подопечных с «первобытным коммунизмом» и с «особой таежной этикой» — единственной этикой, «чуждой… тех пороков, которые вместе с собой несет городская цивилизация» {516}. Раскрывая секреты первобытного коммунизма, Дерсу делает его уязвимым для разлагающих пороков и, на манер Христа, приносит себя в жертву во имя спасения мира от «ростовщичества, рабства, краж, убийств и, наконец, войны» {517}.
Арсеньев не останавливается на том парадоксе, что он и его литературный alter ego — армейские офицеры, возглавляющие наступление на первобытный коммунизм. Он не может «простить себе» того, что привел Дерсу в город, но ничуть не смущается тем, что привел город к Дерсу. Как Ядринцев, новые друзья туземцев желали в одно и то же время хорошего управления — и отсутствия управления. Так или иначе, у большинства из них — как у Ядринцева — были другие, гораздо более важные дела. Бедствия Дерсу не стали предметом политического выбора в столицах: возвращаясь из ссылки, ссыльные возвращались к насущным вопросам мировой войны и мировой революции. Даже у тех, кто не забыл своих дикарей, были другие интересы. В статье об инородцах, написанной в 1910 г., Лев Штернберг исключил северных охотников и собирателей из рассмотрения, поскольку в центре внимания сборника — и в центре дебатов, развернувшихся тогда по всей стране, — были не национальности, а национальные движения. А у бродячих инородцев такого движения не было:
Они… настолько малочисленны, настолько разбросаны на громадных территориях, настолько низко стоят на лестнице культуры и, наконец, благодаря географическим условиям, находятся в обстановке стать неблагоприятной для общения, как между собою, так и с более культурным населением, что, несмотря на свою самобытность, до национального сознания подняться не могли и едва ли когда-либо дойдут до него {518}.
Даже если коренные северяне были известны лучше, чем когда бы то ни было, они мало что значили как часть империи и не имели прямого отношения к «проклятым вопросам», над которыми бились политики и интеллектуалы. У них не было даже истории: в глазах большинства покорение Сибири завершилось «разгромом Кучума от рук Ермака», за которым последовали мрачные годы ссылки и драматическая эпопея крестьянского переселения. (М.И. Венюков сетовал, что образованная публика знает имена испанских и португальских конкистадоров, но никогда не слышала о великих русских землепроходцах {519}.) Даже Дерсу Узала не был «последним из гольдов»: он символизировал гибель высшей нравственности, а не вымирание туземного племени (племя как таковое не представлено в книге). Единственная серьезная попытка мифотворчества вокруг Арктики окончилась крахом: не успела новорожденная сибирская интеллигенция воспеть «вольно-народную колонизацию» и сформулировать проблему коренного населения, как ее почти полностью поглотил мир ссыльных — точно так же, как прежние «вольные колонисты» были вытеснены волной новой иммиграции. Когда они не отбывали ссылку и не бродили по тундре в поисках неиспорченного русского крестьянина, большинство русских интеллектуалов жило в мире, который состоял го России и Запада, и даже те, кто примерял на себя роль скифов или туранцев, делал это, чтобы напугать или наказать Запад, а не для того, чтобы произвести благоприятное впечатление на «азиатов» {520}. Внутри самой России они видели себя в трагическом или героическом положении между извечно противоположными друг другу государством и «народом». Их роль, вина и ответственность осмыслялись в рамках этого российского — но не имперского — противостояния. Среди обвинений, которые они предъявляли режиму, почти никогда не было колониализма или империализма. Затяжная война на Кавказе, завоевание Средней Азии, русификация Украины и «вымирание северных племен» так никогда и не стали широко обсуждавшимися моральными проблемами [54]. Как писал Ядринцев, «централисты-бюрократы сменяются централистами-культуртрегерами, централистами, идущими в народ, централистами-якобинцами и т.д.» {521}. Однако к началу XX в. о добродетелях периферии и нерусского национализма стали громко заявлять все более напористые этнические элиты. Северные инородцы оставались без собственного представительства — пока новый революционный режим не призвал бывших ссыльных выполнить эту задачу.
Глава 5.
ОСВОБОЖДЕННЫЕ
В каждой перемене, даже самой желанной, есть своя грусть.
Народный комиссариат по делам национальностей и племена северных окраин
Бродячие инородцы не смогли уклониться от участия в русской революции. Народы Приамурья оказались в центре войны, тянувшейся еще долго после того, как Врангель оставил Крым: казачий атаман Семенов объявил всеобщую мобилизацию среди тунгусов; белый командир Бочкарев призвал на военную службу погонщиков собачьих упряжек Охотского побережья; а отряды красных партизан «добыли» у нанайцев 670 винтовок, 779 килограмм пороха, 571 килограмм дроби, 1518 лодок, 1188 лошадей и 1489 собачьих упряжек {522}. Даже после восстановления государственной власти сибирские и центральные должностные лица продолжали получать отчеты «об убийствах, грабежах и прочих преступлениях, совершаемых милицией и воинскими частями в инородческом районе» {523}. В отсутствие реальных правовых преград тысячи русских крестьян, страдавших от земельного голода и просто от голода, вторгались на традиционно инородческие территории, охотились круглый год, грабили охотничьи припасы, воровали пушных зверей из капканов и без разбору убивали диких и домашних северных оленей. На реке Чуне даже поджог леса не спас местных эвенков от вторжения крестьян с Ангары {524}.

























