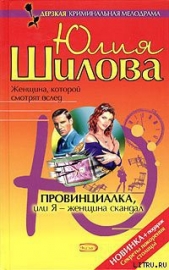Сила слабых. Женщины в истории России (XI-XIX вв.)
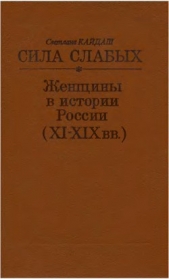
Сила слабых. Женщины в истории России (XI-XIX вв.) читать книгу онлайн
В новую книгу Светланы Кайдаш вошли очерки, рассказывающие о замечательных женщинах России XI —XIX веков от современниц главной героини «Слова о полку Игореве» — Ярославны до декабристок и героинь «Народной воли». В книге использованы забытые и новые факты и документы
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Казалось бы, «Философическое письмо к Г-же***» проникнуто религиозным чувством: церковь, по мнению автора, «должна воцарять истину между людьми», осуществлять «постепенное образование» в обществе духовного единства, «осуществление на земле царства божия». Эту «истину между людьми» Чаадаев видит в «идеях долга, закона, правды, порядка. Они развиваются из происшествий, содействовавших образованию общества; они необходимые начала мира общественного». Это составляет, по его мнению, «атмосферу Запада», «физиологию европейца» .
Иное видит Чаадаев в судьбе России, которая живет, как «незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего... Старые идеи уничтожаются новыми» [95]. Русская жизнь, по мнению Чаадаева, «не заботится ни о славе, ни о распространении каких-либо общих идей или выгод, ни даже о тех семейных, наследственных интересах, о том множестве притязаний и надежд, освященных давностью, которые в обществе, основанном на понятии прошедшего и на понятии будущего, составляют жизнь общественную и жизнь частную. В наших головах решительно пет ничего общего; все в них частно, и к тому еще не верно, не полно» [96].
Эта уничтожительная критика коренных начал русской жизни не только взбесила царя, но и раздражила самые различные слои русского общества.
Дочь историка Н. М. Карамзина Софья пишет брату Андрею, что «письмо, которое напечатал Чаадаев в «Телескопе», занимает «все петербургское общество, начиная с литераторов, духовенства и кончая вельможами и модными дамами». Сама Софья в негодовании: пожалуй, больнее всего ее задели непочтительные слова Чаадаева о православии: «Преимущества католицизма перед греческим исповеданием», источником, как он говорит, всяческого зла и варварства в России, стеною, воздвигнутою между Россией и цивилизацией,— исповеданием, принесенным из Византии со всей ее испорченностью. Он добавляет разные хорошенькие штучки о России, «стране несчастной», без прошлого, настоящего и будущего, стране, в которой возникли лишь два великана: Петр I, мимоходом набросивший на нее плащ цивилизации, и Александр, прошедший победителем через Европу... Как ты находишь все эти ужасы? Недурно для русского!» [97]
Карамзина возмущается цензурой, пропустившей «эти ужасы», и приводит по этому поводу остроту Пушкина: цензура, по его словам, похожа на пугливую лошадь, которая ни за что «не перепрыгнет через белый платок, подобный запрещенным словам, вроде слов «свобода», «революция» и пр., но которая бросится через ров потому, что он черный, и сломает там себе шею».
Митрополит новгородский и санкт-петербургский Серафим написал о статье Чаадаева Бенкендорфу, что все, «что для нас, россиян, есть священного, поругано, уничижено, оклеветано... с оскорблением как для народной чести нашей, так для правительства и даже для исповедуемой нами православной веры» [98].
Впрочем, появление статьи Чаадаева не было неожиданностью для его друзей. Внук знаменитого обличителя русских «поврежденных нравов» екатерининской поры известного историографа князя М. М. Щербатова, Чаадаев, вероятно, от деда унаследовал «идеологическую страстность», острый ум и интерес к проблемам общественной нравственности. Друг Пушкина, Карамзина, Грибоедова, декабристов, Чаадаев не раз удивлял современное ему общество своими поступками и взглядами. Во всей фигуре Чаадаева заключался мощный нравственный потенциал; он органически отвергал любые мертвые каноны, демагогию, его жизнь была полна неустанных духовных поисков, он бесстрашно и свободно смотрел на коренные вопросы религии, философии, морали и политики.
Бунт против православия
После опубликования «Телескопом» «Философического письма» разразилась буря. По царскому указу Чаадаев был объявлен сумасшедшим, редактор журнала критик Н. И. Надеждин сослан, цензор Болдырев, подписавший статью в печать, отстранен от должности.
Герцен называет Чаадаева «мыслителем», который «бросил в мир несколько листков, которые повсюду, где только есть читатели в России, вызвали потрясение, подобное электрическому удару...» [99]
Достоевский признавался, что «в жизнь мою я не встречал более страстно русского человека, каким был Белинский, хотя до него только разве один Чаадаев так смело, а подчас и слепо, как он, негодовал на многое наше родное» («Зимние заметки о летних впечатлениях»). Негодовал на крепостное право, на рабство, пропитавшее души, на православную церковь, покорно служившую этому рабству.
Негодование Чаадаева на православную церковь, выраженное в «Философическом письме», было столь резким, что некоторые приняли его за измену православию: «Ведомые злою судьбою, мы заимствовали первые семена нравственного и умственного просвещения у растленной, презираемой всеми народами Византии. Мелкая суетность только что оторвала ее от всемирного братства; и мы приняли от ней идею, искаженную человеческою страстию» [100].
В самом факте разделения церквей на католическую и православную Чаадаев видит «мелкую суетность», «человеческую страсть». Он скорбит об отъединении от Европы, которое усугубилось «чужеземным игом» татарщины. Судьба православной России, которая оказалась много печальнее просвещенной Европы, заботит Чаадаева. Раздражение современников увидело в письме Чаадаева прославление католичества. Между тем это не так: перед его умственным взором стоял призрак более свободной Европы, где не было крепостничества. «В мире христианском все необходимо должно содействовать и в самом деле содействует учреждению на земле совершенного порядка»,— пишет автор «Философического письма» [101]. И в этом состоит его главное обвинение православной русской церкви. Она не заботится и не думает о «совершенном порядке» в России, равнодушна к главному русскому злу — крепостничеству.
Католичество Чаадаева — легенда. Чаадаев жил и умер, исповедуя православие, и похоронен по православному обряду [102]. Но Чаадаев не мог простить русской церкви, что «русский народ подвергся рабству лишь после того, как он стал христианским». «Пусть православная церковь,— обвинял ее Чаадаев,— объяснит это явление. Пусть скажет, почему она не возвысила материнского голоса против этого отвратительного насилия одной части народа над другой... Одно это могло бы заставить усомниться в православии, которым мы кичимся» [103].
Крепостничество было и на всю жизнь осталось главным врагом Чаадаева. «Басманский философ», как он себя называл (долгие годы он прожил на Новобасманной улице в Москве), считал русский народ народом мало религиозным, но не в католичестве или православии видел он надежду на перемены в России. Маркиз де Кюстин, автор нашумевшей книги «Россия в 1839 году», оставил в ней запись своей беседы с Чаадаевым. Из соображений конспирации Кюстин не называет фамилию своего собеседника, но говорит о нем как о «русском философе, проведшем несколько лет на Западе». Он отвечает маркизу на его вопрос о «положении религии в России»: «и духовная и светская власти энергично противятся богословским спорам. Как только появлялось желание обсуждать спорные вопросы, разделявшие Рим и Византию, обеим сторонам предписывали замолчать». Чаадаев подробно рисует де Кюстину картину возникновения среди русских крестьян многочисленных сект, так как «русский народ религии не учат», и произносит слова, невозможные для убежденного католика: «В сущности предметы спора (между Римом и Византией) столь незначительны, что раскол продолжает существовать только благодаря невежеству в религиозных вопросах» [104]. Итак, если уж говорить о религиозных взглядах Чаадаева, не католичество, а некая единая христианская церковь кажется ему наиболее отвечающей духу времени и самой сущности христианской жизни. Он считает «драгоценнейшим даром, данным религией человечеству»,— «священное единство» [105], а в «чрезмерном благоговении перед библейским текстом» видит причину всех «раздоров» в христианском обществе. «Кто же не знает, что, опираясь на текст, каждая секта, каждая ересь провозглашала себя единственной истинной церковью бога? Что благодаря тексту придан был римскому первосвященнику титул главы христианства, викария И. X. (Иисуса Христа.— С. К.) и что с текстом же в руках оспаривали и доныне оспаривают его право на этот верховный сан?» [106] Подобные рассуждения для католика звучали бы кощунственно.