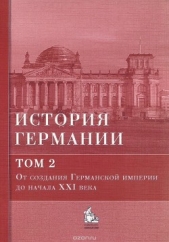На "Розе Люксембург"
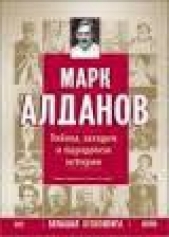
На "Розе Люксембург" читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— ...Возлагаю надежды на комендоров товарища Трифонова. Они немцу покажут: видал субчика! Но мы все должны соревноваться на службе нашей дорогой, счастливой Родине. И мы покажем фашистской сволочи, где раки зимуют, уж в этом я даю честное ленинское! — сказал он и прочел текст обязательства: «Беру на себя социалистическое обязательство только на отлично выполнять все задачи, которые будут на меня возложены в походе». Он хотел было, чтобы каждый произнес обязательство отдельно, но Прокофьев опять многозначительно посмотрел на часы. До отхода оставалось шестнадцать минут, об опоздании хотя бы на одну минуту — да еще при иностранцах — не могло быть речи. Комиссар велел произнести обязательство хором, как на больших судах. Сюрприз он подготовил к концу.
- В честь нашего гениального вождя, учителя и друга предлагаю назвать поход Сталинским! — воскликнул он. Предложение было принято единогласно и покрыто криками «ура!». Громче всех кричал старый штурман.
- Есть! Сегодня же занесем в стенгазету, — сказал комиссар.
Через минуту все были на своих местах. Прокофьев с мостика смотрел в бинокль на берег и думал, что, вероятно, больше никогда не увидит ни Мурманска, ни Москвы, ни Архангельска. Когда пароход отошел, Сергей Сергеевич незаметно перекрестился (хоть был неверующим человеком) и еще с полчаса постоял на мостике. Впрочем, делать ему было пока нечего. В Кольском заливе опасности еще ждать почти не приходилось. Море в этот бессолнечный безветренный весенний день было совершенно спокойно. Воздушных налетов в заливе давно не было.
II
Лейтенант Гамильтон только вздохнул, увидев умывальник своей каюты. Почему-то в Мурманске он надеялся, что на «Розе Люксембург» можно будет добиться ванны. В его памяти (он два раза ездил с родителями в Европу) с понятием парохода связывалась роскошь, превосходившая роскошь их собственного дома. Гамильтон догадывался» что на советском пароходе, на котором ему устроили место после долгих хлопот, особенных удобств не будет. Однако на ванну он рассчитывал твердо. Освободившись от все еще не совсем привычной ему военной формы; он надел темно-красный бархатный халат, подарок матери ко дню рождения (стоивший так дорого, что мать с твердой улыбкой отклоняла шутливые вопросы отца о цене), надел отороченные мехом сафьяновые туфли и выглянул в коридор. Врожденная деликатность говорила ему, что на этом судне не следовало бы показываться в таком наряде. Но другого халата он не имел» а в коридоре никого не было видно. Он прошел до конца коридоров и, не найдя ванной комнаты, вернулся. Выбежавший из-за угла молодой матрос, увидев Гамильтона, остановился на ходу, вытаращив глаза. Лейтенант смущенно скрылся в каюте. «Да, чудесная страна, изумительный народ, и у них строится новая жизнь, тогда как у нас разрушается старая, но жаль, что пока так мало комфорта», — подумал он и опять пожалел, что не захватил с собой резинового туба, как сделал коммандэр Деффильд. Он кое-как умылся над крошечным откидным тазом с щелями и пятнами на фаянсе, оделся и в самом лучшем настроении духа вышел на падубу.
«Роза Люксембург» еще не отошла. Лейтенант, радостно, сочувственно улыбаясь, следил за быстрой, ловкой и ладной работой матросов. Ему казалось, что едва ли так работают американские рабочие, одетые неизмеримо лучше этих бедных людей, вероятно, и питающиеся неизмеримо лучше. Ему было немного неловко перед матросами: сам он на пароходе ничего не делал и никакого задания не имел. Лейтенант подошел к борту и долго с восторгом смотрел на панораму Мурманска, на бухту, на снеговые горы. «Я немного видел мест более прекрасных и своеобразных, чем это...»
Когда пароход отошел, лейтенант, не зная, что с собой делать, погулял по опустевшей палубе быстрыми гимнастическими шагами, Все по-прежнему улыбаясь и что-то вполголоса напевая, то слева, то справа появляясь в поле зрения стоявшего на мостике капитан-лейтенанта Прокофьева. Встретившись с ним взглядом поверх раздувшейся парусины поручней, лейтенант весело помахал рукой и закричал: «Хелло!» «Жизнерадостный гражданин! Да удельной («красавчик»), — опять подумал архангельским словом Прокофьев. — И курит там, где не полагается. Сейчас же ему скажу...» Неприязненное чувство к американцу в нем неясно выразилось в мысли о Марье Ильинишне.
Минут через пять Гамильтону надоела его гимнастическая прогулка. Он выносил одиночество только за чтением и за сочинением стихов. Теперь ему хотелось говорить, делиться впечатлениями, мыслями о России. На палубе никого не было. Он опять подошел к борту, раскурил третью папиросу и снова стал смотреть на берега понемногу расширявшегося залива. «Как бедно — и как величественно!» Берега состояли то из гранитных скал, то из мелкого низкорослого' леса. Долго тянувшиеся склады товаров, не очень пострадавшие от германских налетов, кончились. Теперь попадались только группы изб, привязанные к столбам рыбачьи беспалубные суда. У одного селения стояла толпа людей. Пароход прошел очень близко от них, и эта чрезвычайно бедно одетая толпа вдруг неприятно поразила Гамильтона своей странной безмолвностью: в Мурманске, напротив, кипела жизнь. Он помахал рукой толпе — и почему-то тотчас отошел к другому борту. «Да, Полярный круг! Какой фон для поэмы!» — подумал он радостно, теперь твердо уверенный, что поэму напишет.
В университете все — некоторые с завистью, большинство дружелюбно — говорили, что Чарльз Гамильтон - баловень судьбы. Родители его были богаты и принадлежали к хорошему обществу. Это была очень консервативная семья: мать значилась среди «Дочерей Революции», а отец был внуком Линкольновского полковника. Мать внимательно следила за последними успехами китайской медицины, а отец собирал коллекцию французских табакерок XVIII века (имел табакерку Рошамбо — «того самого»). Их сын был» по общему и справедливому отзыву, необыкновенно даровит. Книга его стихов, выпущенная им двадцати лет от роду и названная «Carmen Aeternum»{1}, имела немалый успех. Критик большой нью-йоркской газеты очень лестно отозвался о его стиле (были слова: «rebellious», «sensual», «fecund», «highly provocative»{2}), отметил влияние на него Катулла, Томаса Кэмпиона, Китса и всех трех Ситуэллов и обсудил его книгу как «commentaries on human experience»1. Если у этого критика были грехи, то бесспорно они были отпущены за ту невероятную, ни с чем не сравнимую, не повторяющуюся в жизни радость, которую он доставил в этом мире человеческому существу. После этой рецензии (три столбца в литературном приложении газеты) было немало других, менее важных. В местной же студенческой газете появилась восторженная статья с портретом Гамильтона: его поклонница, курсистка, говорила о необыкновенной его способности проникать в чужую душу и отмечала в нем нероновский комплекс. «Помимо десятка других блестящих карьер Чарльз Гамильтон мог бы сделать карьеру гадалки и предсказательницы», — писала девица. В этом была, по-видимому, доля правды: на шуточных сеансах университетского «Общества черной магии» у Гамильтона действительно иногда бывали необыкновенные удачи в угадывании чужих мыслей и даже в чем-то вроде телепатии. «Это медиум!» — был общий голос.
Книгу его признал и старый профессор, у которого он учился. Этот профессор написал пять томов о поэтической литературе нашего времени; она у него была очень точно распределена по периодам и все, попарно: от Теннисона и Россетти до Свинберна и Генлея, от Свинберна и Генлея до Киплинга и Мэнсфильда, от Киплинга и Мэнсфильда, до Брука и Грейвса. Тем не менее — или именно поэтому — профессор решительно ничего не понимал в поэзии и каждого нового поэта благоразумно расценивал лишь после появления о нем достаточного числа рецензий. После десятой рецензии оценил и Гамильтона и даже мысленно отвел ему место в одной из следующих пар — к восьмому тому и к достижению Гамильтоном сорокалетнего возраста. В ожидании этого в дружески-отеческой беседе со своим молодым учеником профессор посоветовал ему попробовать свои силы в большой поэме в старом байроновском жанре. «Я знаю, жанр этот очень устарел, — испуганно сказал профессор, глядя в смеющиеся глаза Гамильтона, — но у всякого жанра может быть возрождение, и вы знаете, с каким успехом Спендер возродил жанр Шелли». «Чтобы писать, как лорд Байрон, надо и жить, как он», — ответил скромно Гамильтон.