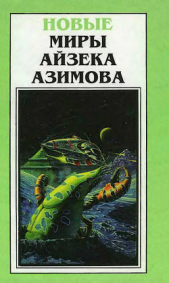Из Автобиографии

Из Автобиографии читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В нашей стране имеется примерно восемьдесят тысяч священников. Из них политической независимостью обладают человек двадцать, не больше, остальные ее лишены. Они должны голосовать за ту партию, к которой принадлежат их прихожане. Так они и поступают, и их нельзя осуждать. Причина, по которой они лишены политической независимости, заключена отчасти в них самих: они ведь не проповедуют политической независимости со своих кафедр. В том, что наш народ лишен политической независимости, повинны во многом и они.
Среда, 7 февраля 1906 г.
[СЮЗИ ПИШЕТ МОЮ БИОГРАФИЮ]
Когда Сюзи было тринадцать лет, эта худенькая девчушка с каштановыми косами, отливающими бронзой, - самая занятая пчелка во всем домашнем улье: ее день был до краев заполнен ученьем, лечебной гимнастикой и всяческими играми и развлечениями, - тайком, по собственному почину, движимая любовью, взвалила на себя еще одно дело - писать мою биографию. Трудилась она по ночам у себя в комнате и записки свои от всех прятала. Через некоторое время мать обнаружила их, стащила и показала мне; а потом призналась в этом Сюзи и рассказала ей, как я был доволен и горд. Вспоминать об этом случае для меня большая радость. Комплименты мне делали и раньше, но ни один меня так не растрогал, ни один не был мне так дорог. Я и теперь могу сказать, что из всех комплиментов, похвал и почестей, от кого бы они ни исходили, самым ценным для меня всегда было и всегда будет то, что сделала Сюзи. Вот я перечитываю эти строки сейчас, после стольких лет, и опять воспринимаю их как высшую награду и испытываю то же радостное изумление, какое испытал тогда, только теперь к нему примешивается горькое сознание, что прилежная рука, торопливо царапавшая эти строки, уже никогда не коснется моей, - и я понимаю, что должен чувствовать смиренный, не ожидающий почестей человек при виде монаршего указа, возводящего его в дворянское звание.
Вчера в одной из старых записных книжек, которые я перерывал впервые за много лет, мне попалось упоминание об этой биографии. Совершенно ясно, что в те далекие дни я несколько раз, за завтраком или за обедом, позировал своему биографу. Да что там, я просто помню, что так оно и было, и помню, что Сюзи поймала меня на этом. Как-то утром, за завтраком, я сострил с весьма самодовольным видом, а немного позже Сюзи по секрету сообщила матери, что папа это сказал для биографии.
В том, что писала обо мне Сюзи, я не могу изменить ни строчки, ни единого слова. Время от времени я просто буду вводить кусочки из ее записей в их первозданном виде. В них отразилась особенная простота, идущая от сердца - прекрасного, честного сердца ребенка. Все, что проистекает из этого источника, отмечено неповторимым очарованием и грацией, здесь могут быть нарушены все общепринятые законы литературы, но, однако, это литература, и заслуживает признания.
Орфография - порой вопиющая, но так писала Сюзи, так оно и останется. Мне дороги ее ошибки, для меня это чистое золото. Исправить их значило бы не облагородить это золото, а подмешать в него меди. Это была бы профанация, это бы все испортило. Исчезла бы свобода и гибкость, все стало бы сухим, казенным. Даже ее самые несуразные орфографические промахи меня не шокируют. Так писала Сюзи, она старалась изо всех сил, и для меня этим все сказано.
Языки давались Сюзи легко, история тоже давалась ей легко, и музыка тоже; все, чему ее учили, она постигала легко, быстро, основательно, - все, кроме правописания. Со временем она постигла и это. Но даже если бы она так и не научилась писать без ошибок, меня это не очень бы огорчило: я никогда особенно не уважал этой способности, хотя самому себе только ее и могу поставить в заслугу. Шестьдесят лет тому назад, когда я был мальчишкой, у нас в школе полагалось два приза: один - за хорошее правописание, другой за вежливое обхождение. Призы эти представляли собой гладкие серебряные бляшки размером с доллар. На одной было выгравировано красивым круглым шрифтом "Правописание", на другой - "Вежливость". Получившие такую медаль носили ее на шее, на веревочке, и вся школа им завидовала. Любой школьник дал бы отрубить себе руку за право поносить эту бляшку хотя бы неделю, но таких счастливчиков было только двое - Джон Робардз и я. Джон Робардз был неизменно, несокрушимо вежлив: я бы даже сказал, дьявольски вежлив; канальски вежлив, вежлив до отвращения. Именно такое чувство вызывала в нас эта его черта. И конечно, он всегда носил медаль за вежливость. А вторую медаль всегда носил я. Впрочем "всегда" - это слишком сильно сказано. Мы несколько раз теряли свои бляхи. Нам надоедало их носить. Хотелось разнообразия, и мы иногда обменивались медалями. Джону Робардзу приятна была даже видимость, будто он правильно пишет, а писал он прескверно. Мне же для разнообразия приятно было хотя бы считаться вежливым. Но, разумеется, такой самообман не мог длиться долго: кто-нибудь из одноклассников замечал нашу проделку и, как всякий нормальный школьник, незамедлительно доносил о ней по начальству. Учитель, конечно, отбирал у нас медали; но не позже чем в пятницу вечером они снова оказывались у нас. Если, скажем, мы лишались медалей в понедельник утром, то в пятницу днем, когда учитель подводил итоги за неделю, вежливость Джона оказывалась на первом месте. К концу занятий в этот день проводилось состязание по орфографии. Я, будучи в немилости, должен был отвечать последним, но к концу побоища, разбив наголову всех своих одноклассников, я всегда выходил победителем, с медалью на шее. Правда, один раз в самом конце такой битвы я сделал ошибку и, следовательно, потерял право на приз: я пропустил "р" в слове февраль, - но то была жертва на алтарь любви. Так сильна была в то время моя страсть к одной из девочек, что ради нее я пропустил бы весь алфавит, если б он вмещался в одном этом слове.
Итак, повторяю, я никогда особенно не уважал умения писать без ошибок. В этом смысле я не изменился и по сей день. До того как появились учебники орфографии с их твердыми, застывшими нормами, в правописании разных людей невольно проявлялись особенности их характера, а также интересные оттенки в выражении мыслей, так что появление этих учебников можно, пожалуй, считать сомнительным благом.
Сюзи приступила к моей биографии в 1885 году, когда мне шел пятидесятый год, а ей - четырнадцатый. Начала она так:
Мы очень счастливая семья. Мы состоим из папы, мамы, Джин, Клары и меня. Писать я буду про папу, и мне нетрудно придумывать, что про него сказать, потому что он очень интересный человек.
Но погодите немножко - к Сюзи я скоро вернусь. В том, что касается рабского подражания, обезьяне далеко до человека. Обыкновенному человеку самостоятельные суждения недоступны. Он даже не пытается изучить предмет и подумать, чтобы составить себе о нем собственное мнение, ему интересно лишь узнать точку зрения соседа и присоединиться к ней. Я уже лет тридцать тому назад понял, что последний отзыв о той или иной книге почти наверняка будет копией первого отзыва о ней. Что последний рецензент в точности повторит все похвалы и все упреки первого, ничего нового к ним не добавив. Именно поэтому я из предосторожности не раз посылал свои новые книги в рукописи мистеру Гоуэлсу, когда он был редактором "Атлантик монсли", чтобы он мог не спеша подготовить на них отзыв. Я знал, что он напишет о моей книге правду, знал и то, что он найдет в ней больше достоинств, чем недостатков, потому что и сам понимал, что их больше. И я не разрешал отпечатать ни одного экземпляра книги, пока о ней не появится заметка мистера Гоуэлса. За такую книгу можно было не опасаться. Во всей Америке ни у кого из пишущей братии недостало бы храбрости усмотреть в книге то, чего не усмотрел в ней мистер Гоуэлс. Во всей Америке ни у кого из пишущей братии не хватило бы духу на свою ответственность сказать о книге новое, смелое слово.
Я считаю, что профессия критика - литературного, музыкального, театрального - наименее почтенная из всех профессий и что она, в сущности, не нужна - во всяком случае, не очень нужна. Когда мы с Чарльзом Дадли Уорнером готовили к выпуску в свет "Позолоченный век", редактор "Дейли график" уговорил меня дать ему рукописный экземпляр, поклявшись, что не поместит в своей газете отзыва раньше, чем это сделает "Атлантик монсли". Через три дня этот мерзавец опубликовал-таки отзыв. Жаловаться я не мог: единственная гарантия, какую я имел, было его честное слово, а следовало бы потребовать от него что-то более вещественное. Помнится, речь в его статье шла не столько о достоинствах и недостатках книги, сколько о моей нравственности. Меня обвинили в том, что я, пользуясь своей репутацией, обманул читающую публику, что половину книги написал мистер Уорнер, а я поставил свое имя, чтобы создать ей славу и успех, - успех, которого она не имела бы, не будь на ней моего имени, - и что такое мое поведение равносильно жульничеству и обману. "График" не пользовалась авторитетом ни в какой области. Выделялась она только тем, что это была первая и единственная ежедневная газета, выходившая с иллюстрациями; но у нее не было своего лица, издавалась она бедно; ее мнение о книге и вообще о каком бы то ни было произведении искусства не имело ни малейшего веса. Всем это было известно, и, однако же, все американские критики один за другим списали отзыв "Графика", изменив только отдельные слова и выражения, но оставив в силе обвинение меня в нечестной игре. Даже чикагская "Трибюн", самая влиятельная газета Среднего Запада, не сумела придумать ничего новенького, но повторила отзыв ничтожной "Дейли график", включая и обвинение в нечестности. Ну да ладно. Раз бог повелел, чтобы у нас были критики, и миссионеры, и конгрессмены, и юмористы, - будем безропотно нести это бремя.