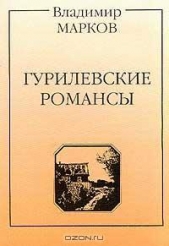Что значит быть студентом: Работы 1995-2002 годов

Что значит быть студентом: Работы 1995-2002 годов читать книгу онлайн
Эта книга — выходящий посмертно сборник работ петербургского историка и социолога Алексея Маркова (1967–2002). Основная часть книги — впервые публикуемая монография о петроградских студентах 1910-х — первой половины 1920-х годов как об особой общественной группе со своим набором ценностных установок, идеологических и коммуникативных практик. В приложении помещены статьи, посвященные эволюции образования, политикам тела и истории сексуальности в России конца XIX — первой трети XX века, а также проблемам современной отечественной гуманитарной науки.
Во всех работах А. Маркову были свойственны нетривиальный исследовательский подход и методологически заостренное видение. Поэтому его книга может быть интересной и нужной не только специалистам, но и всем читателям, интересующимся интеллектуальной историей России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Имели ли дискуссии о студенческой сексуальности сугубо «репрессивный» оттенок? Следует, по-видимому, согласиться с М. Фуко, что само беспрестанное обсуждение «запретной темы» создавало новые источники удовольствия — самим фактом «говорения», признания, науки сексуальности [310]. Конструировались новая личность и новые отношения микровласти в российском обществе. На первый взгляд кажется противоречием соседство самого либерального в тогдашнем «развитом мире» семейного законодательства [311] и рассмотренного выше типа мышления о сексуальной жизни. Загадка отчасти разрешается в рамках того же дискурса: «исправление» возможно через медицинскую и гигиеническую пропаганду и надзор советской «пролетарской» общественности. Вспоминается идея «паноптикума Бентама», которую неоднократно анализировал Фуко [312]. В рамках языка просветителей человек оказывался достаточно «прозрачен» и управляем доводами разума. Насколько советские специалисты и сами студенты оказались близки к этому взгляду на мир 150 лет спустя? Вопрос вдвойне непрост, поскольку родившиеся во второй половине XIX столетия социальные науки, по существу, вернулись к картезианской логике Просвещения (либо продолжили ее победное шествие): прояснение горизонтов бессознательного — в широком смысле — ради осознанного управления им [313]. С другой стороны, значительно повлиявшая на русских интеллектуалов Серебряного века философия Ф. Ницше осуществила глубокую критику новоевропейского рационализма и, в частности, подновленного кантианства представителей социальных наук [314]. Возможно, поэтому подспудная тревога за успех эксперимента присутствует и во многих из цитированных выше текстов. Тот же Д. И. Лacc позволил заподозрить себя в снисходительном отношении к мастурбации; еще более «либерален» казанский врач С. Я. Голосовкер, утверждавший, что последствия мастурбации, хоть и нежелательны, но менее опасны для общества, чем беспорядочная половая жизнь, чреватая заражением венерической болезнью [315]. За стремлением создать общество «половых скромников» (А. Б. Залкинд) угадывается беспокойство перед «джином из бутылки», которого невозможно контролировать. Эта «раздвоенность» — критика «буржуазности» и викторианский дух — предопределила двусмысленность студенческих практик сексуальной жизни, отмеченную еще в статье Ш. Фицпатрик [316]. Студенты часто рассматривали свое сексуальное поведение как ненормативное, в то же время будучи весьма «умеренны» (с современной точки зрения, конечно) на практике. Осмысливая интимную жизнь как аспект публичной сферы, учащиеся одновременно конструировали себя как индивиды. Соответственно эта индивидуальность существенно отличалась от «католической» в Западной Европе (и, вероятно, от протестантской): она реферировалась не к теологическим нормам и не к сугубо «научному» дискурсу, но к общественно-государственному интересу, менявшемуся в зависимости от обстоятельств и корректировавшему марксистскую картину мира. Допустимо предположить, что эта специфика была во многом предопределена православием, под влиянием которого оформился «жизненный мир» населения России, а также тем сложным синтезом, который обустраивал мир практик российских образованных слоев начиная с эпохи Петра I. Развивать здесь эту чересчур общую декларацию нам не представляется ни уместным, ни доказательным. Отметим лишь, что будущая элита сталинской эпохи, существенно повлиявшая на особенности процессов индивидуализации в 1930–1950-е годы, конструировалась именно в университете и институте периода нэпа [317].
Как и до революции, более «духовные» формы повседневной жизни (впрочем, неотделимые от рассмотренных выше) — чтение, театр, кинематограф, изобразительное искусство, музыка и т. п. — были не менее важны для конструирования и трансформации студенческой идентичности. Изменения, привнесенные «красным» студенчеством, при первом приближении также можно определить как своего рода «коллективизацию», не затронувшую разве что чтение. «Старое» студенчество создавало и участвовало в многочисленных литературных и поэтических кружках — как собственно студенческих, так и профессиональных. Но скорее это было поле саморепрезентации, чем «коллективного» творчества [318]. Иной характер приобрели «красные» кружки. Прежде всего они были достаточно «официальными», то есть имели свои помещения в институте и действовали с разрешения, а часто и при активной помощи администрации и партийных комитетов, сдвигая «пограничную полосу» между студенчеством и госбюрократией и превращая студента в агента-партнера государства [319]. Менялись также практики творчества: речь шла о систематической учебе и коллективности опыта. Кстати, групповые виды творчества пользовались особой популярностью — например, хоровое пение. Вырос интерес к театру, до революции бывшему в первую очередь профессиональным занятием, а в 1920-е годы ставшему популярной формой студенческой самодеятельности [320]. Появились студенческая журналистика и, следом, культура оформления стенгазеты. Студкоры работали как для университетской или институтской газеты (стенгазеты), так и для городских и московских студенческих изданий, советских и партийно-комсомольских газет и журналов. Они имели не только институтские, но и общегородской центр — бюро студкоров при журнале «Красный студент» [321]. Участие в деятельности разного рода творческих объединений считалось неотъемлемой составляющей партийной, комсомольской и профсоюзной работы «пролетария» и средством влияния на «болото». Признавая, что «официозная» культура доминировала в «статусных» студенческих кружках, отметим неопределенность понятия «официозная культура» в годы нэпа, по крайней мере в первой половине 1920-х годов. В самом деле, что можно считать «официозом» в литературном движении эпохи — РАПП, «Кузницу», ЛЕФ? Аналогично, был ли мейерхольдовский театр безусловной доминантой после своеобразной «диктатуры» первых революционных лет? Стоит напомнить, что даже группировке, связанной с именем опального Замятина, — «Серапионовым братьям» — не чинили особых препятствий [322]. Еще более удивительными могут показаться человеку неосведомленному относительная свобода и возможность печататься, коими располагали ученики расстрелянного Н. С. Гумилева, публичные выступления А. А. Ахматовой и т. д. [323] Соответственно многообразие форм культурной жизни отвечало многообразию габитусов в тогдашнем российском обществе, однако же не находившему своего завершения в политике и идеологии. Студенчество же и до революции не составляло единого целого, хотя, судя по опросам рубежа 1900–1910-х годов, «классические» вкусы преобладали (Толстой, Достоевский, Пушкин в литературе, например) [324]. Но в начале 1920-х годов водораздел в культурных пристрастиях мог означать нечто большее, чем до 1917 года. Речь идет о демонстративной привязанности «белоподкладочников» и «болота» к богемным дореволюционным и сравнительно аполитичным современным культурным течениям, в то время как «красное» студенчество увлекалось «пролетарской литературой» и футуризмом. К середине десятилетия, по мере «гомогенизации» студенчества и своеобразной «реставрации» его маргинального статуса, карта культурных предпочтений также эволюционировала; кульминацией этих перемен стала кампания по борьбе с «есенинщиной» [325]. Фигура С. Есенина и его поэзия надолго стали культовыми — и не столько в среде студенческой «богемы» старого образца, сколько среди «пролетариев» и «крестьян». Одновременно эти предпочтения приобрели ярко выраженную политическую окраску оппозиционного характера, маргинализируя их носителей.