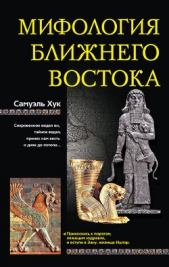Человек в культуре древнего Ближнего Востока
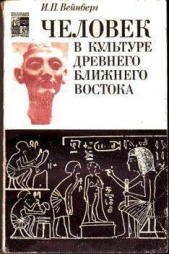
Человек в культуре древнего Ближнего Востока читать книгу онлайн
В результате скрупулезного анализа памятников древнейших культур Древнего Египта, Шумера, Вавилонии и др. автор воссоздает внутренний мир, мировоззрение древнего человека, важнейшие аспекты личности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В отличие от семейно-родовой группы, обладавшей в глазах древневосточного человека стабильной и неизменной наивысшей значимостью и ценностью, весьма архаичная возрастная социальная группа с течением времени теряла свое значение. Оценка различных возрастных ступеней также менялась. «Дитя и старец — фигуры, полные таинственного значения для мифологической архаики» [4, с. 171]. Многие древневосточные тексты подтверждают правильность этого наблюдения. Например, в жизнеописании Рамсеса II (XIII–XII вв. до н. э.) большое внимание уделяется детским и юношеским годам фараона: «Управлял ты еще тогда, когда был в яйце в твоем статусе ребенка и наследного царевича. Сообщали тебе о делах обеих земель, когда ты был еще мальчиком с локоном… Ты стал „верховными устами“ войска, когда ты был еще мальчиком десяти лет» [106, с. 19].
Древнеегипетское «Поучение Птахотепа» открывается красочным описанием старческой немощи, когда «рот молчит и более не говорит. Глаза не видят и уши не слышат», что, однако, не помеха мудрости, равно как сто десять лет волшебника Джеди не преграда его чудотворным действиям. Но если в девтерономическом описании жизни Давида большое внимание уделено его юности и старости, то в более позднем описании хрониста эти периоды жизненного пути опущены и царь изображен только зрелым мужем. Совместно с другими данными это доказывает, что с течением времени древневосточного человека, равно как и античного, все больше «интересует муж, воин и гражданин, находящийся в поре „акмэ“ (расцвета. — И. В.), в возрасте, когда совершают „деяния“» [4, с. 171].
Такой индивид мыслится древневосточным человеком как непременный член какой-либо локальной социальной группы — сельской общины или города. Первоначально древневосточный человек воспринимал этот тип социальной группы через призму семейно-родовой группы, как семейно-родовую группу, что проявляется в древних генеалогических формулах типа: сыны (бене) X, А, Б, В и др., X породил (холид) А, Б, В и др., X — отец Саб) А, Б, В и др., где А, Б, В — локальные группы. Но с течением времени осознается самостоятельность локальной группы, что находит свое выражение в новой генеалогической формуле: X обитает (йошеб) в А [25, с. 69–70]. Можно также отметить растущее с течением времени признание значимости и ценности локальной группы, необходимости для человека принадлежать к ней. Это приводит к тому, что в I тысячелетии до н. э. полное наименование свободного человека все чаще включает также название города или селения: большинство ветхозаветных пророков обозначаются по этой формуле — «Слова Йиремйаху, сына Хилкийаху из священников, которые в Анатоте», «Миха из Мореши» и т. д. Но еще значительнее тот факт, что принадлежность к локальной группе представляется столь важным компонентом подлинно человеческого существования, что лишенные ее «египтяне стали подобны чужеземцам, выкинутым на дорогу» [118, 1, с. 44], т. е. утратили достоинство человека.
Не менее показательно для древневосточного восприятия социальной группы растущее с течением времени признание значения и престижности профессиональных социальных групп и принадлежности к ним индивида. Это находит выражение в крепнущем самосознании членов профессиональных групп, в горделивом подчеркивании своей корпоративной принадлежности путем включения их названия в полное наименование или самоназвание человека. Когда Надин, сын Бел-аххе-Ики-ши, потомок Эгиби (VI в. до н. э.), в многочисленных своих документах иногда пропускает имя отца или родовое имя, но всегда указывает свой титул «писец Эанны» [35, с. 101 и сл.], то это такое же выражение горделивого самосознания своей принадлежности к престижному ремеслу писцов, как обычай указывать профессиональную принадлежность в личных печатях: «(Принадлежащая) Берехйаху, сыну Нерийаху, писцу», «(Принадлежащая) [Зе]карйаху, жрецу в Доре» — или упоминать имя изготовителя вещи, как на финикийской надписи: «Лимирн, ликиец, изготовитель чаш (фиал)» [130, с. 122], и др.
В словах гераклеопольского (до XXII в. до н. э.) варианта мифа творения о том, что после сотворения богом Ра людей, животных «он создал для них (людей) князей (еще) от яйца, правителей, чтобы поднять хребет слабого» [78, с. 85], можно усмотреть попытку включить в модель мира новое социально-политическое явление — носителей власти — путем отнесения их к первичному времени творения. Но в глазах гераклеопольского царя Ахтоя Уахкара (XXII в. до н. э.) такие социальные группы, как «вельможи» и «бедняки», представляют собой уже установившиеся данности со строго очерченной характеристикой, ибо «не пристрастен тот, кто богат в своем доме, он владыка вещей и не нуждается», а бедняк «не говорит… правды. Несправедлив говорящий: „О, если б я имел“. Пристрастен он к тому, кто владыка подаяний его» [118, 1, с. 32]. Во всем древневосточном законодательстве меры наказания и вознаграждения за услуги сословно определены (см. гл. II). Принадлежность к сословной группе — основной элемент при определении статуса индивида государством, законом, обычаем. Но вот что показательно: в отличие от многочисленных, преисполненных чувством собственного достоинства демонстраций древневосточным человеком своей принадлежности к семейно-родовой, локальной и профессиональной группам упоминания принадлежности к сословной группе крайне редки. Не исключено предположение, что сословная принадлежность индивида на древнем Ближнем Востоке, будучи определяющим элементом его статуса, еще не стала элементом его самоопределения. Причина того, что сословная группа по-разному воспринималась «сверху» — с позиции царя, царской администрации, закона и т. д. — и «снизу» — с позиции индивида, возможно, заключается в том, что тесная привязанность «я» древневосточного человека к четко оформленным микрогруппам, таким, как семейно-родовая, возрастная, локальная и профессиональная, мешала ему воспринять гораздо менее четкую и компактную макрогруппу, какой на древнем Ближнем Востоке было сословие (в отличие, например, от индийской варны).
Вероятность такого объяснения подтверждается тем фактом, что в иерархии социальных групп различные неоформившиеся социальные группы — «гости», «друзья» и пр. — отмечены лишь малой степенью значимости и ценности. Особенно отчетливо это проявляется на примере дружбы, определяемой как отношение сугубо личностное, добровольное и индивидуально-избирательное, глубокое и интимное, свободное от заданности и предопределенности, не преследующее никаких утилитарных целей и являющееся благом само по себе и т. д. [65, с. 136]. Феномен «дружба» не чужд древневосточному человеку: друзьями называют себя Гильгамеш и Энкиду, и в словах Гильгамеша об умершем Энкиду:
звучат мотивы эмоциональной близости. Но скорее всего они были побратимами и принадлежали к очень важной и распространенной на древнем Ближнем Востоке категории искусственного родства. Приметы истинной дружбы, личностной и добровольной, лишенной всякой утилитарности, связывают Давида с Иехонатаном. Это подлинно бескорыстная дружба, особенно со стороны Йехонатана, поскольку Давид враг его отца Шаула и соперник его самого. Однако «друзья» и подобные неоформившиеся социальные группы не слишком привлекают древневосточного человека не только из-за их аморфности, но также из-за той степени индивидуализации, которую они предполагают и стимулируют, но которая представляется ему чрезмерной и неприемлемой.
Древневосточный человек входил одновременно в несколько различных по своей сущности социальных групп. Осознание им своей одновременной принадлежности к этим группам «интенсифицирует деятельность самосознания, которое должно как-то совместить и интегрировать эти множественные и противоречивые определения» [66, с. 132]. То обстоятельство, что один и тот же индивид по-разному проявляет себя в качестве заботливого отца и ворчливого старика, доброго соседа и умелого писца, высокомерного богача и т. д., что он по-разному воспринимается различными людьми в различных общностях, несомненно, стимулирует процесс индивидуализации древневосточного человека, его осознание себя личностью, индивидуальностью. Но вместе с тем именно факт непременной связанности индивида с социальными группами лимитирует возможности, пределы подобной индивидуализации, другой преградой для которой служит основополагающая в древневосточной жизни и модели мира оппозиция «мы — они».