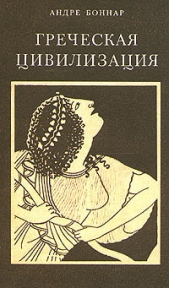Греческая цивилизация. Т.1. От Илиады до Парфенона
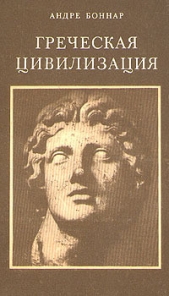
Греческая цивилизация. Т.1. От Илиады до Парфенона читать книгу онлайн
Книга известного швейцарского ученого А. Боннара — уникальное по глубине и яркости исследование истории греческой цивилизации. Переведенная на многие европейские языки, она дает наиболее полную, художественно и философски осмысленную картину греческой культуры, от ее истоков до конечного этапа.
Издание иллюстрировано, рассчитано на широкие круги читателей, интересующихся общими вопросами культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Je sentis tout mon corps et transir et bruler».
Этими несравненными стихами Расин, вслед за другими, дал нам возможность услышать, на этот раз по крайней мере на французском языке, звучание самой, жестокой оды Сафо.
Приводим более близкий перевод этой оды:
Богам равным кажется мне по счастью
Человек, который так близко, близко
Пред тобой сидит, твой звучащий нежно
Слушает голос
И прелестный смех. У меня при этом
Перестало сразу бы сердце биться:
Лишь тебя увижу, — уж я не в силах
Вымолвить слова.
Но немеет тотчас язык, под кожей
Быстро легкий жар пробегает, смотрят,
Ничего не видя, глаза, в ушах же —
Звон непрерывный.
Потом жарким я обливаюсь, дрожью
Члены все охвачены, зеленее
Становлюсь травы, и вот-вот как будто
С жизнью прощусь я.
Но терпи, терпи: чересчур далеко
Все зашло...
(Â. Âåðåñàåâ, ñ. 168, 2)
Мы введены в орбиту страсти Сафо. Владыка ее — Эрос. Желание поражает, и Сафо подсчитывает удары.
Эта ода — рассказ о битве. При каждом новом нападении Эроса Сафо всем своим существом ощущает, как рушится понемногу та уверенность, которую она ощущала во всем своем организме (жизненном механизме). От нее одно за другим ускользают все ощущения, связывающие ее с миром и дающие чувство уверенности в жизни, — образы, звуки, ровное биение сердца, прилив крови к щекам. Она как бы присутствует при последовательном расстройстве действий своих органов, и ей приходится безумствовать и умирать с каждым из них. И она умирает с сердцем, которое перестает биться, с горлом, неспособным издать звук, и вдруг пересохшим языком; огонь распространяется по жилам, глаза отказываются видеть, в ушах только шум крови, все тело ее начинает дрожать и приобретает оттенок трупа... Теперь, после того как она присутствовала при том, как страсть выводит из строя один ее орган за другим, ей остается умереть самой. Когда завладевшая ею болезнь постепенно покорила все ее существо, она оказывается лицом к лицу с чистым самосознанием, лишенным своей естественной опоры. Болезнь овладевает ею. Она — как это ни парадоксально — проникается сознанием своей смерти (слова «вот-вот как будто» снимают с утверждения оттенок нелепости). Последние стихи гласят:
...и вот-вот как будто
С жизнью прощусь я.
Нигде искусство Сафо не проявилось более обнаженно, чем в этой оде. Нигде ее поэзия не имеет такого странно физиологического характера. В самом деле — это факт. В ней приводится лишь точное перечисление физических признаков желания. В этих стихах почти нет прилагательных — тех прилагательных, которые в любовной лирике так хорошо драпируют сентиментальными складками чисто физическое явление. Здесь одни существительные и глаголы: поэзия предметов и событий.
Душе тут почти не отводится места. Тело могло бы призвать на помощь душу, переложить на нее бремя своих страданий. Могла ведь Сафо придумать себе какое-нибудь эмоциональное прибежище от физической боли — ревность, ненависть или печаль разлуки: моральная боль могла бы послужить морфием. Обстоятельства благоприятствовали подобному бегству. Один филолог обнаружил, что причиной возникновения поэмы послужил отъезд из дома муз подруги, выходившей замуж. В первых стихах, очевидно, описан жених, который сидит рядом с предметом страсти Сафо. Но в поэме нет явно выраженной грусти расставания. Сафо не вынашивает в своем сердце это нежное чувство. Она не старается опьянить себя своим горем, чтобы забыть о своей пытке. Она целиком занята страданием своего тела. В своей любви она выделила лишь эту ослепляющую и оглушающую грозу, бушующую у нее в крови...
Сафо нечего скрывать: ее искусство — прямота и искренность. Оно правдиво. Она не стыдится ни одного из своих внутренних ощущений. Она говорит: языки уши;она говорит: поти дрожь.Ее искусство переносит в антиподы приятного: нет ничего приятного в том, чтобы обливаться п о том. Сафо обливается п о том; она не стыдится этого, но и не хвастает — она просто констатирует.
Сафо не описывает и предмет своей страсти. Он для нее недосягаем; нам лишь названы коротко и с безупречной точностью явления, которые вызваны им. К чему же должно привести представленное здесь драматическое действие? Исход один, и он не оставляет сомнения: страсть должна погубить того, кем она овладела.
Перед нами во мраке горит огонь. Поэт зажег его в центре огромной зоны тьмы. В его искусстве нас ничто не отвлекает от этого пламени — ни постороннее чувство, ни описание любимого существа — одинокое и всепобеждающее пламя горит, выполняя свое дело смерти. Этот свет, окруженный тьмою, — страсть Сафо.
* * *
Историку литературы тут можно прийти в восторг — он соприкасается с абсолютным началом. Еврипид, Катулл и Расин говорили о любви языком Сафо. Она не говорила ничьим языком. Она вся целиком нова.
Тщетно прислушиваться к более древним голосам любви.
Андромаха говорит Гектору:
Гектор, ты все мне теперь — и отец, и любезная матерь,
Ты и брат мой единственный, ты и супруг мой прекрасный!
(Èë., VI, 429-430)
Парис обращается к Елене:
Ныне почием с тобой и взаимной любви насладимся.
Пламя такое в груди у меня никогда не горело;
Даже в тот счастливый день, как с тобою из Спарты веселой
Я с похищенной бежал на моих кораблях быстролетных,
И на Кранае с тобой сочетался любовью и ложем.
Ныне пылаю тобою, желания сладкого полный.
(Èë., III, 441-446)
Архилох — к Необуле:
. . . . . . . . . . . Тенью волосы
На плечи ниспадали ей и на спину...
. . . . . . . . . . . старик влюбился бы
В ту грудь, в те мирром пахнущие волосы...
(Â. Âåðåñàåâ. Ýëëèíñêèå ïîýòû, ñ. 143, 31 è 32)
Мимнерм вспоминает о Нанно:
Без золотой Афродиты какая нам жизнь или радость?
Я бы хотел умереть, раз перестанут манить
Тайные встречи меня, и объятья, и страстное ложе.
Сладок лишь юности цвет и для мужей, и для жен.
(Òàì æå, ñ. 226, 1)
Задумываешься над этими разными голосами любви. У каждого из них свой собственный оттенок. И сколь отличен от всех, как не похож на остальные голос Сафо! И нежность Андромахи, и горячий и чувственный призыв Париса к презрительно взирающей на него Елене, и смелый и прямой пристальный взгляд Архилоха на Необулу, и меланхолическое воспоминание Мимнерма о Нанно — все это не то. Нет, Сафо одна. Знойная и задумчивая Сафо.
Знойная. До этого Эрос не пылал. Он горячил чувства, согревал сердце. Он вдохновлял на жертву, на нежность, на сладострастие, на ложе. Но он никогда не испепелял, не губил. Всем, в кого он вселялся, он что-нибудь давал — мужество, наслаждение, сладость сожалений... Одной Сафо он ничего не дает, но все у нее отнимает.
Бог, лишенный чувства. «Необоримый» и «неуловимый» — говорит она одним словом о нем в другом произведении. Его нельзя поймать ни в какую западню. Любовь приводит в смятение столько же, сколько и обескураживает. Она сочетает противоположности: наслаждение и горечь. Воображение бессильно себе ее представить. В творениях Сафо, где сияет образ Афродиты, Эрос не облекается в какой-нибудь человеческий образ. В сохранившихся стихах нет ни крепкого юноши, ни меткого стрелка. Можно подумать, что образ его еще не был создан (что не вполне точно). Правильнее предположить, что Сафо не может согласиться с таким воплощением. Для нее Эрос — темная сила, проникающая в ее члены и изнуряющая их: она постигает его только через пытку, причиняемую им ее телу, и мысль ее не способна увидеть его лицо. Невидимый и тайный поселившийся в ней дух выражается метафорами. Образы, наделяющие его поэтической жизнью, обличают природу грубую и коварную. Их она заимствует у слепых сил физического мира или же у беспокойной поступи зверя:
Эрос вновь меня мучит истомчивый, —
Горько-сладостный, необоримый змей.
(Òàì æå, ñ. 172, 21)
Однако никакое толкование не выдерживает слишком тяжкого груза слов. Сафо дает в одном прилагательном понятие о наслаждении и горечи Эроса, характеризуя непостижимую природу божества. Слово, переведенное нами «змей», означает ползающее животное. Любовь Сафо бескрылая — она еще только змей. Что до прилагательного «необоримый» (против которого бессильна механика), в нем на греческом языке чувствуется трепет «homo faber» (кузнеца своего счастья), бессильного унять эту непокоренную силу. Если бы передать греческие слова на старофранцузском языке, вышло бы: Эрос — зверь, не попадающийся в капкан («bete qu'on n'empiege pas»).
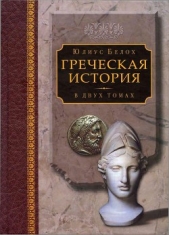
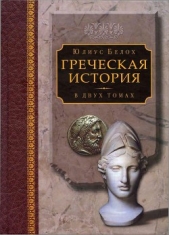

![Очаг света [Сцены из античности и эпохи Возрождения]](/uploads/posts/books/135603/135603.jpg)