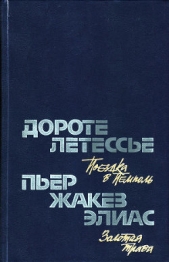Год на севере

Год на севере читать книгу онлайн
Эта книга - "Год на Севере" открыла целую эпоху в североведении, о чем свидетельствует огромное количество переизданий данного произведения. Яркий, живой язык писателя, использование местных диалектных слов и подчас доскональное знание исторических источников делают этот труд выдающимся в своем роде памятником русской публицистики. Книга написана по результатам северной экспедиции С.В. Максимова в феврале 1856 - феврале 1857 годов, организованной Морским министерством для сбора этнографических и исторических сведений о поморах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Стало быть, страдальцы жили на острову более пяти недель.
— Так вот, вишь ты, жизнь-то наша приморская, — перебил хозяин, — где потеряешь — не чаешь, а где и найдешь — не знаешь. Вон и теперь под нами-то, надо быть, сажен 50 печатных глуби есть. Ладно еще, что вольненькая-то морянка тянет, да Бог милует!.. Ну, слушай же, твоя милость, расскажу я тебе еще старину. Знаешь про Ко́лгу да Жо́жгу?
— Слыхал, что есть острова в море — Колгуев да Жожгин...
— Супротив последнего острова есть мысок экой небольшой — Кончаковым Наволоком зовется — неподаль от деревни Дураково. Вот на всех местах этих жили три брата: меньшого-то Кончаком звали, так по именам-то их и острова теперь слывут. Вот, стало быть, и живут эти три брата родные, одного, выходит отца- матери дети; живут в дружбе-согласии; у всех топор один: одному надо швырнул через море к брату: тот подхватил, справил свое дело, топор ему передал. Так и швырялись они — это верно! С котлом опять, чтоб уху варить — самое то же: и котел у всех один был. Живут-то они этак год, другой, третий, да живут недобрым делом: что сорвут с кого, тем и сыты. Ни стиглому, ни сбеглому проходу нет, ни удалому молодцу проезду нет, как в старинах-то поется. Шалят ребята кажинный день, словно по сту голов в плечи-то каждому ввинчено. Стало проходящее христианство поопасываться. В Соловецкий которые богомольцы идут, так и тех уж стали грабить: уж и что бы, кажись, баловства пуще. А вот пришел раз старичок с клюкой: седенький экой, дрябленький, да и поехал в Соловки с богомольцами-то. И пристали они к Жожгину острову, где середний братан жил. И вышел Жожга, и подавай ему все деньги, что было, и все, что везли с собой. Старичок-то клюкой и ударь его, и убил, наповал убил. А по весне приговорился на сальный промысел, да и Колгу убил, и в землю его зарыли. Да сказывали бабы — из земли-то выходить-де стал: и мертвый бы — а лежит, мол, что живой, только что навзничь. И пугает... Долго ли, много ли думали, да гадали и стали на том, что вбить, мол, колдуну, по заплечью-то, промеж двух лопаток, осиновый кол...
— Ну! — Привздохнул откуда взявшийся старик- работник, до той поры незамеченный.
— Перестал вставать: ушел на самое дно, где три большущих кита на своих матерых плечах землю держат.
— Ну, а Кончак-от что, третёй-от брат? — опять спросил рассказчика старик-работник. Но хозяин ответил не прямо, а обратился ко мне, примолвив:
— Старика, гляди, розобрало! Не все тебе, старина сказывать надо: по ночам вопить станешь. Слушай!
Кончак-от такой силы был, что коли сух, да не бывал в бане, что ли, или не купывался — в силе стоит, с живого вола сдерет одним ногтем кожу; а коли попарился этак или искупался, так знай—малый ребенок одолит. Вот и полюби он попову жену и украл ее у попа-то: та на первых порах и смекни—что богатырь-от после бани что лыко моченое. Она и погонись за ним вдоль берега по морю до Кончакова Наволока, тут он изошел духом, умаялся — помер. Там тебе и могилку его укажут, коли хочешь.
— Будет же, браты, видно, разводы-то разводить: вот и Кильяки! Берись за шест да налегай, старина, на руль-то покрепче! — Завершил Егор свои рассказы в самую опасную для нас пору плавания: шли мы узенькой салмой (проливом); саженях в десяти-двенадцати справа и слева тянулся ряд нешироких, невысоких луд, известных в группе своей под именем Кильяков...
В салме этой можно было проследить все разнородные виды морских голышей, так опасных для судов, и прослушать все меткие названия, которыми охарактеризовывали их поморы в отличие один от другого. Вот баклыш — надводный огромный камень, покрываемый прибылою водой, и бакланец (бакланец потому, что любит на ней садиться и вить гнездо морская птица баклан) — низенькая луда, тот же баклыш, но вода прибылая не топит его; корго — подводный камень, иногда в целом переборе, в нескольких десятках экземпляров; пахта — целый утес, одиноко выдавшийся в море из груды соседних островов. Вот поливуха — камень стоящий наравне с поверхностью воды, которая мырит на нем все время буруном. Вот и вечно обманывающие самый опытный глаз водопоймяны — камни и мели, покрываемые водою во время прилива; чуры — хрящеватые отмели или косы; наконец, клин — подводная каменная банка или риф, за́бережье — та часть морского берега, которая во время прилива покрывается водой и осыхает при отливе, и ле́щади — ровные, гладкие подводные мели с арешником — целыми грудами мелких, округленных волнами камней.
Но вот снова крики: «Оброни марсель! И кливер оброни!.. Старик, ступай-ко к бизани: я пойду якорь брошу!» Затем опять несколько глухих криков, ширканье каната, глухой стук и всплеск — шкуна дрогнула и остановилась. Ветер ходит духами: то припадает, то опять зарябит волны, напущенные сюда дальним голомянным взводнем. Пену несет дородно, по замечанию работника, и вся салма наша представляла вообще тот вид, который не позволил бы сунуться в Неву ни одному петербургскому ялику. Егор преспокойно спустил свой ботик со шкуны, достал из каюты два избитых, обгрызанных весла, служивших, может быть, весьма недавно в деревенском дому его для месива пойла коровам, и принялся обряжать парус. Материалом для последней цели послужил старый мешок старика-работника, навязанный на тоненькую палку. Мешок, вдобавок ко всему, в одном месте украшался изрядной величины дырой.
— Мыши прогрызли, в клети лежала! — Объяснил старик. — Думали, надо быть, съестное найти!..
Нашли они немногое: пестрядинную рубаху, кусочек суконца синего, кусочек кожицы, нитки, козырек от шапки — и только. Старик, вечно нанимающийся на суда работником, жил налегке; да едва ли и мог иметь что больше, если представить себе его постоянно в руках прожорливых чужеядных поморских монополистов.
Егор уже готов, одетый в свой полотняный сюртук, пропитанный вохрой с маслом и представлявший вид самодельной клеенки — произведение личной сметки и досужества самого Егора; ни прежде, ни после не случалось мне видеть такого наряда. Сам Егор прихвастнул:
— Никакой дождь не берет: что с гуся вода отменное дело.
Парусок налажен и, к крайнему удовольствию всех моих спутников, надулся ветром.
— Садись, барин, карета готова.
— Егор, не опружило бы? Видишь какой взводень, и ветер не тишет!
— Не из таких бед выхаживали сухи: Бог миловал, а и эта волна, так... сонное виденье!
— Однако в реке-то мелкие волны будут, подшибут, пожалуй!
— Не кверху полетим и в реке, коли пронесет морем. Ветер-то к той поре авось и потишет...
— Страшно, Егор, право страшно!
— Страшен черт, коли во сне приснится, а наяву-то пристанет — так и открестимся. Одно только сумлениенаводит: не осмеяли бы встречные, что вот, мол, палкой подпоясались, мешком упираются...
Трудно было не согласиться на предложение Егора, видя все его хладнокровие и зная его опытность и приглядку ко всякому шагу на море. Через месяц после я уже в подобных случаях не задумывался, видя даже в поморских бабах удивительную смелость, уменье управляться и с рулем, и с косыми, и с прямыми парусами.
Егор продолжал быть верным себе и во все время, когда наша скорлупа-ботик болтался по далеко еще не уходившемуся взводню. У старика-гребца выскочило из уключин (называемых здесь кочетьями) весло, почти вышибенное бойко набежавшей волной. Егор усмехнулся с таким же хладнокровием, с каким посмеялся бы он и в каюте, во время стоянки на якоре, над стариковой дремотой или чем-нибудь подобным.
— Что, старик, каши ложку потерял?
— Бури престаша, ветры улегоша, во своя устроися, — примолвил он в ту пору, когда скорлупа наша обогнула наволок и побежала в небольшую, порожистую речку Кемь. За дальним коленом реки выглянул и самый Город, сначала своими двумя деревянными церквами; потом рядом домов, из которых один коричневый, другой зеленый, остальные все цвета дикого крашенного и дикого крепко подержанного, вылинявшего от дождей и снега...