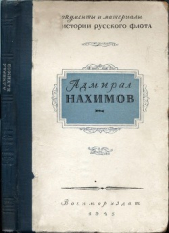Двадцать три ступени вниз

Двадцать три ступени вниз читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но ведь после свержения царизма трудящимся массам России пришлось включить в "настоящие свои дневные дела" длительную вооруженную борьбу против Корнилова, Краснова, Каледина, Деникина, Колчака, Врангеля и других царских генералов - главарей контрреволюции и поборников монархической реставрации в России. И многие годы после гражданской войны белоэмигрантский монархический стан поставлял фашизму и международной контрреволюции самых свирепых террористов-диверсантов и убийц, таких, как мстившие за "царя-батюшку" Конради (он стрелял в Воровского в Лозанне в 1923 году) и Каверда (стрелял в Войкова в Варшаве в 1927 году).
"Тот, кого не было" в действительности существовал. И был у него под руками пульт власти, у которого он двадцать три года хлопотал и орудовал. Не раз складывались острые, рискованные ситуации, тогда маленький ростом и духом самодержец терялся, проявлял нерешительность и колебания, переходя от возбуждения к апатии. Не раз подталкивали его супруга и Распутин; внушали волевое усилие сановники и царедворцы.
И все же он был далек от роли пешки. Он знал, что делал, и хотел того, что делал. Под внешним покровом безразличия и пассивности таилось понимание своей определенной роли. На пути к цели он способен был проявить и энергию, и изобретательность. Эту энергию придавали ему глубоко сидевший в нем обскурантизм, его органическая и непримиримая враждебность ко всему, что шло от исторической новизны, от прогресса и свободомыслия.
И дело было не только в том, что он верил в провиденциальное назначение системы самодержавия, стремясь сдержать данную отцу клятву о бескомпромиссном охранении ее устоев. Он сам, по самой сути своей личности, питал острую ненависть ко всему яркому и свежему, что несла с собой современность. Всякое движение сил, олицетворявших идею свободы и человечности, отождествлялось для него с угрозой его личной безопасности и благополучию его семьи.
Коль скоро представление о полезном или вредном для самодержавия и для него лично утвердилось в нем, он мог приступить к действию с решимостью, переходившей в ожесточение. Перед лицом крамолы или либерализма, в которых прежде всего усматривалась угроза его единоличной власти, а следовательно, и его личной безопасности, он не знал ни колебаний, ни пощады. Без следа улетучивалась сентиментальность, как рукой снимало его внешнюю благовоспитанность, которую, несмотря на причиненные ему к концу службы обиды, превозносил Витте.
"Император Николай II, - писал Витте, - обладает особым даром очарования. Я не знаю таких людей, которые, будучи первый раз представлены государю, не были бы им очарованы; он очаровывает как своей сердечной манерой, обхождением, так и в особенности своей удивительной воспитанностью... Мне в жизни не приходилось встречать по манере человека более воспитанного, нежели наш император".
При подавлении "всякого движения жизни в народе" Николай мог проявить и силу характера, и последовательность, и неутомимость. За двадцать три года своего правления он ни одной существенной позиции в системе своего тиранического единовластия не сдал, ничем из унаследованного не поступился, ничего против своей воли не признал, ни с чем, лично им отвергаемым, не согласился. То немногое, что с перепуга отдал, при первой возможности отнял; пережив в октябре 1905 года страх и унижение чуть было не состоявшегося бегства из России, в дальнейшем мстил революционерам и демократам изощренней, чем когда-либо прежде.
Но за его мстительным упорством никогда не было широты тактико-стратегического замысла; его реакция на опасность была упрощенной и односложной; в его представлениях о противнике отсутствовал кругозор. Дегенеративное измельчание династии на последнем этапе ее властвования породило невиданный в ее трехвековой истории административно-управленческий примитив. По замечанию одного публициста тех лет, у рычагов управления империей Николай II напоминал человека, который взялся решать задачи по интегральному исчислению, зная только таблицу умножения. Ни у какого другого правителя из рода Романовых личный отклик на явления государственной и общественной жизни не был столь мелким, как у Николая II. Едва ли не главная движущая пружина его побуждений - беспокойство за себя и свой престол; основная реальность, им учитываемая, - физическая сила; наиболее почитаемые им средства внутренней политики - экзекуции, травля и устрашение. Приспособиться к новым условиям исторической обстановки он не может и не хочет. Он не в состоянии приноровиться к Государственной думе, которую сам "даровал", и притерпеться хотя бы к ее буржуазно-националистическому большинству, которое высказало ему столь много верноподданнического почтения.
Запуганный в детстве убийством деда, в отрочестве - деспотизмом отца, в первые месяцы царствования - нахрапом горластых фанфаронствующих дядьев, маленький последний самодержец, придя в себя, вознамерился, в свою очередь, запугать Россию, взяв ее за горло.
Вдохновляемый сим идеалом царствования, с детства навеянным ему Победоносцевым, и стал Николай править стосорокамиллионной державой. Перешагнув через ходынские волчьи ямы, двинулся дальше. Из сумрачных углов Зимнего пошли один за другим во внешний мир высочайшие манифесты и указы, неизменно начинавшиеся с местоимения "Мы"... "Мы, Николай Второй..." Все сущее в империи делилось для него на "мы" и "они". Понятие "мы" включало: самого помазанника божия, его семью, великих князей и княгинь; затем обступившую их плотную толпу сановников, жандармских начальников и фрейлин, придворных анекдотистов и собутыльников, фокусников и конюших; в этих рамках - украшение и гордость двора: немецкие советники и усмирители, которым Николай II на протяжении всей своей государственной деятельности доверял стойко и непоколебимо. К разряду же "они" относились все остальные жители империи, олицетворенные в его глазах кухаркиным сыном, которого князь Мещерский рекомендовал драть по поводу и без повода - в три темпа." Относившиеся к категории "мы", в их числе и бранденбургские полицмейстеры, воплощали собой патриотизм. Зачисленные в категорию "они" сто сорок миллионов подданных были им с первого дня правления заподозрены в государственной измене.
С этой позиции, спутав новый век с эпохой испанского герцога Альбы и курляндского герцога Бирона, он сделал заявку на всесилие и величие, обнаружив при этом лишь банальность, незначительность и отсутствие воображения.
По отзыву современника, Николай был "средний, не особенно сильный, не особенно интеллигентный человек, вознесенный судьбой на сверхчеловеческую высоту, выработавшийся в самоуверенного невежду, совместивший тряпичность души с упорством, а темноту свою - с нежеланием соприкасаться с жизнью и видеть жизнь" (3).
(1) Примечание к переводу книги Мабли "Размышления о греческой истории"
(1773 год).
(2) Hanns Manfred Heuier. Die Wahrheit Uber den Mord der Zarenfamilie. Bunte Illustrierte (Offenburg- Baden). N 8-19, II-V, 1965
(3) К. Н. Успенский. Очерк царствования. Издание журнала "Голос минувшего". Москва, 1917
ТАЩИТЬ И НЕ ПУЩАТЬ
В небольшом домике на берегу моря царь подписал манифест о даровании свобод.
За умолкшими фонтанами и поредевшим парком, под шорох волны и осеннего ветра несколько человек спорили в прибрежном петергофском коттедже с раннего утра.
Дядья наседали на Николая и переругивались между собой. Спорили, есть ли в России революция. Сошлись на том, что наступила ли она или только надвигается, надо сманеврировать, выиграть время, собраться с силами - авось удастся удушить бунт в зародыше. Горячились Николай Николаевич, прозванный Длинным, и Алексей Александрович, известный в Петербурге гурман и гуляка. Оба теснят царя к письменному столику, где на раскрытом бюваре ждет его подписи бумага с заготовленным текстом.
Но он отказывается и упирается.
Он на это не пойдет.
Подпись свою на таком документе он не поставит.
Никаких послаблений. Никаких свобод.