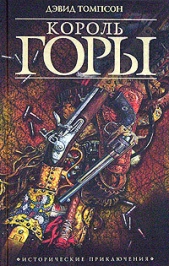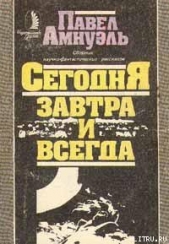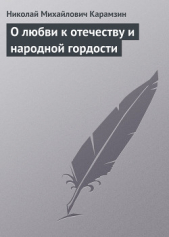Выше свободы
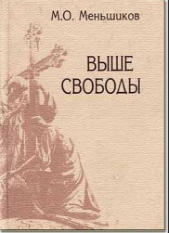
Выше свободы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот чему, мне кажется, учит пирамида черепов. Не только миру, который благословенен, свят, необходим, но и войне, которая отстаивает этот священный мир.
Роль пророческая
Верещагина во всем свете считали великим мастером кисти, но никто не называл его, конечно, вероучителем. Он просто был крупный человек своего времени, представитель своей расы и своей культуры со всеми ее причудами и страстями. Как в лесу есть плохие и хорошие экземпляры, Верещагин был одним из великолепных экземпляров великоросса, напоминая в этом отношении своего коллегу И.И. Шишкина. Это был не вес-человек, а русский только, и русский до последней клетки мозга. В напечатанных из Маньчжурии его письмах накануне гибели он вздыхает о пасхальном окороке, пишет, что устал платить за стакан чаю бешеные деньги и завел себе чайник. В Америке, в Индии, в Китае Верещагин всегда носил в себе всю Россию с ее атмосферой, с ее привычками, добродетелями и предрассудками. Нет сомнения, что он веровал или не верил совершенно, как простые русские люди, то есть очень твердо и в то же время очень неопределенно. У простых людей хорошей, отстоявшейся породы вера более или менее беспредметна. Это просто уверенность, крепкая, бессознательная, а в чем - сказать трудно. Сильные звери, которые не дрожат за жизнь, и люди совершенно здоровые имеют этот уверенный вид. Такие люди органической культуры, хотя бы грубой, безотчетно чувствуют в самих себе настоящую правду, правду безыскусственного бытия, не зависимого от сознания. Такие люди могут быть и глупыми, и гениальными, но нравственно они спокойны, как сама природа. Есть другого типа люди, которых поклонники зовут пророками, хотя они предсказывают обыкновенно то, что никогда не сбывается. Эти люди, вышедшие из стиля своей эпохи, - диссиденты, сектанты, реформаторы. Вопреки мнению, будто это люди твердой веры, я думаю, что у них-то именно и нет ее: стихийное равновесие духа, дающее безотчетную уверенность, в людях этого типа поколеблено. Они умственно беспокойны, их мысль делается страстной, подчас неистовой; они томятся жаждой остановиться, уверовать, признать нечто за истину. Отсюда напряженные поиски формул и логических выражений веры. Отсюда страшная важность, которую они придают словам, определениям, будто жизнь течет не вне последних. Отсюда притязание быть выразителями вечной Воли, посланниками ее, нравственными законодателями. Потерявшие равновесие веры люди этого типа увлекают за собой им подобных. Встревоженные, ищущие, рассуждающие без конца, они заражают своею тревогой ближних. И если такой реформатор сумеет сосредоточить на себе внимание многих, создается новая секта, новый моральный стиль. В старинные времена новый стиль обыкновенно должен был выдержать страшное давление старого, общепринятого, и всего чаще погибал в зачатке. Тот же, который выдерживал эту борьбу, тем самым доказывал глубокую свою жизненность и соответствие с новою, перерождавшеюся природой общества. В наше время, время махрового расцвета цивилизации, накануне, может быть, увядания ее, в человеческое сознание выброшено столько стилей, столько настроений, формул, начал, методов, что ни один из них не встречает условий ни для поражения, ни для торжества. Как протестантизм разбился в Америке на десятки толков, каждое философское учение дробится на десятки школ. Кончается тем, что каждый мыслящий человек думает по-своему и гений каждого общества - согласие - отлетает от него. Умственная культура сменяется умственной анархией. Эпоха собирательной мудрости народной сменяется эпохой софистов, которые ни во что не верят и все могут доказать. Софистика обыкновенно вырождается в схоластику, в идолопоклонство мысли, в тот или иной талмуд.
Л.Н. Толстого, как мыслителя, нельзя назвать, конечно, ни софистом, ни схоластом. Он более похож на древнего мудреца, одного из тех, что в глубоком уединении души своей, в отшельничестве среди пустынь и гор переводили безотчетную мудрость народа на язык сознания. Но, как и многим пророкам и мудрецам, Толстому, мне кажется, недостает того непосредственного постижения вещей, которое утаено от мудрых и открыто младенцам.
Я должен сделать оговорку. Названной выше статьи Толстого в "Times", к огорчению моему, я не могу касаться. Мне хотелось бы спорить против этой статьи, но я должен обойти ее молчанием. Здесь я говорю вообще о нравственной философии Толстого, о моральном типе этого мыслителя наряду с его выдающимися сверстниками. Еще не так давно я чаще, чем кто-либо в печати, высказывал искреннее изумление пред высотою мысли Толстого, пред его евангельскою проповедью смирения, кротости, милосердия, пред его мечтою о блаженстве добра. С глубокой благодарностью и восхищением я читал, например, его народные рассказы: они напоены тою же вечной правдой, что и беседы великих старцев вроде Серафима или Амвросия, столь чтимых народом. Мне лично не нужно никакого вероучения, я уже знаком со многими, но для меня страшно важно вот это доброе влияние, эти речи, которых "значенье темно иль ничтожно", но которым нельзя внимать без глубокого и радостного волненья сердца. Читая Толстого, имея высоко ценимое мною счастье беседовать иногда с ним, я чувствовал самым реальным образом, что делаюсь лучше, свежее, благороднее, насколько вообще я на это способен. Думаю, что под безотчетным влиянием этого мыслителя я написал свои лучшие статьи и книги. Говорю об этом для того, чтобы меня не могли заподозрить в какой-либо "вражде" к Толстому, в желании, как это бывает с журналистами, наговорить дерзостей всеми признанному авторитету. Напротив. Непоколебимо веруя в основное благородство этого великого человека, я не могу оспаривать его иначе, как с глубокой почтительностью. Но есть пункты в учении Толстого, с которыми я никогда согласиться не мог. Amicus Plato, sed magis arnica veritas14. Эти пункты - заповеди абсолютного непротивления, абсолютного целомудрия, абсолютной нищеты. Не противься злу, и если пьяный злодей или сумасшедший точит нож, чтобы тебя зарезать, подставь ему горло, но не оскорби его насилием. Не гляди на женщину с вожделением, даже на жену свою, не имей детей. Не имей никакого имущества, ничего дорогого в мире вещей, отрекись от всего. Вот, сколько я понимаю, основные тезисы этого нравственного учения, которое сам Толстой называет анархическим. Из столь категорических отрицаний естественно вытекает глубокое презрение к человеческому роду, такому, каков он есть, к его бесконечно разнообразной ткани государств, религий, установлений, к его пестро-узорному труду, к его промышленности и торговле, к науке и искусству, ко всему, что тешит бедное человеческое сердце. Отсюда же одновременное отрицание брака, создающего людей, и отрицание войны, уничтожающей их. С этими крайними отрицаниями мне согласиться трудно. Мне кажется, тут Толстой, подобно многим моралистам и реформаторам, ополчается на самое природу и на тот Промысл, который таинственным образом, непрерывною работою добра и зла, дает жизни торжество над смертью.
В общении с мыслью Толстого испытываешь то же самое, что при подъеме в горы. На средних склонах развертываются удивительные дали; жизнь внизу, в долинах, кажется прелестной; свежий, душистый от альпийских трав воздух поднимает грудь, и впереди остается какая-то высокая загадочная цель вершина. Но чем дальше вверх, тем природа становится беднее. Исчезают роскошные леса, исчезают травы. Начинаются мелкие полярные мхи, и наконец все охватывает царство вечного снега. Чем ближе мысль к ее крайнему выражению, тем она безукоризненнее, но и суровее, и холоднее. Смертью дышит от сверкающих, как алмазы, граней ледников. И вот вы с великими усилиями влезаете на острый гребень. Голый, как череп, камень среди необозримых снежных полей. На горизонте, теряющемся в облаках, такие же голые, немые вершины. Жизнь исчезла из глаз, смолкли голоса, пейзаж - застывшей в небе планеты, и в кристально чистой выси оказывается дышать нечем.
"Средние склоны" учения Толстого (как его первоисточника - Будды) очаровательны. И непротивление злу, взятое в средней мере, и плотское целомудрие, и нищета - все это в органическом своем равновесии суть истинно великие принципы, мудрость которых неоспорима для всякого, кто сколько-нибудь философски развит. Поистине всего разумнее не семь раз прощать врагу, а семью семьдесят раз, как учил Христос. Поистине необходимо святое, возвышенное, благоговейное отношение друг к другу тех жизненных полярностей, которые называются полами, мужским и женским: противоположные, как полюсы, они неразделимы в творческом токе жизни. Поистине прекрасно известное равнодушие к богатству, та евангельская нищета, которая освобождает от самого презренного из рабств: порабощения вещам. Все это, как откровение свыше, чувствовалось людьми высокого духа с незапамятных времен. И китайские, и индийские, и персидские, и греческие, и еврейские философы до такой степени считают эти начала важными, что придают им священное, нездешнее происхождение. Нравственные тезисы, которые повторяет Толстой (повторяет, а не создает), записаны на скрижалях, и в своей средней мере они суть истины бесспорные. Но крайняя мера тех же тезисов представляет бесплодный пик, выходящий из атмосферы, где дышать возможно. Крайность есть уже отвлечение, факт из другой природы, только мыслимой, но не способной быть. Простой пример: нас учили, что есть числа 1, 2, 3, 4 и т.д. Но в действительности в природе нет этих отвлеченных чисел, а есть только именованные, то есть непременно реальные предметы или явления, к которым можно приставить 1, 2, 3, 4 и т.д. С реальными вещами нельзя проделывать тех действий, что с отвлеченными, или тотчас наступает их смерть. Нельзя разделить живую единицу пополам или вычесть из нее что-нибудь. В отвлечении, читая увлекательные речи Будды (в Суттах), я прихожу в невольный восторг. Я соглашаюсь с тем, что есть какая-то странная, невыразимая красота в отречении от жизни, в подавлении всего, что волнует дух, в стремлении к небытию. В отвлечении совершенно понятны и Зороастр, и Лао-цзы, и стоики. Но есть же, однако, разница между жизнью и отвлечением. Рассуждая отвлеченно, всего разумнее всякой вещи двигаться по кратчайшему расстоянию - по прямой линии. Но что вышло бы, если бы это поставили как нравственный долг, как закон абсолютный? Жизнь мгновенно остановилась бы, так как в природе есть какие угодно движения, кроме прямых. Нравственные учения отвлеченно бесспорны, как геометрия Евклида. Но они благотворны, как и эта геометрия, лишь в той степени приближения, на какую жизнь способна.