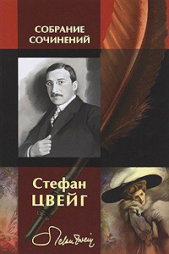Поезд на третьем пути
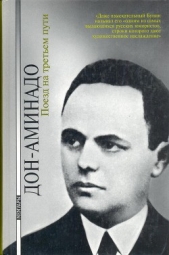
Поезд на третьем пути читать книгу онлайн
ПОЕЗД НА ТРЕТЬЕМ ПУТИ - серьезная, даже грустная книга: она воскрешает быт русской провинции начала XX века, полную обаяния жизнь литературной и театральной Москвы десятых годов и пронизанное отчаянием существование русских эмигрантов в прекрасном и все-таки чужом для них Париже.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Проза его была целомудренна, горячей мыслью выношена, сердечным холодом охлаждена, беспощадным лезвием отточена.
Все воедино собрано, все лишнее отброшено, в жертву прекрасному принесено красивое, и вплоть до запятых - ни позы, ни лжи.
Не случайно, и не без горечи и зависти, уронил Куприн:
- Он, как чистый спирт в девяносто градусов; его, чтоб пить, надо еще во как водой разбавить!
Но Брюсов, помилуйте! - Цевницы, гробницы, наложницы, наяды и сирены, козлоногие фавны, кентавры, отравительницы колодцев, суккубы, в каждой строке грехопадение, в каждом четверостишии свальный грех, - и все пифии, пифии, пифии...
А ведь какой успех, какое поклонение, какие толпы учеников, перипатетиков, обожателей, подражателей и молодых эротоманов, не говоря уже о вечных спутницах, об этих самых "молодых девушках, не лишенных дарования", писавших письма бисерным почерком и на четырех страницах, просивших принять, выслушать, посоветовать и, если можно, позволить принести тетрадку стихов о любви и самоубийстве...
Одна из самых талантливых. Надежда Львова, не только добилась совета и высокого покровительства, но, исчерпав всю гамму авторских надежд, которым в какой-то мере суждено было осуществиться, проникновенно и поздно поняла, что человеческие и женские иллюзии не осуществляются никогда.
Что-то было непоправимо оскорблено и попрано.
В расцвете лет она покончила с собой, книжка стихов, которая называлась "Вечная сказка", вышла вторым посмертным изданием.
О молодой жертве поговорили сначала шепотом, потом все громче и откровеннее.
Потом наступило молчание.
Потом пришло и забвение.
***
Поклонение Брюсову было, однако, прочным и длительным.
Из поэтической школы его, где стихи чеканились, как монеты, а эмоции сердца считались признаком отсталости и архаизма, и где священным лозунгом были презрительно брошенные сроки:
Быть может, всё есть только средство
Для звонко-певучих стихов!...
Из школы этой вышло немало манерных последователей и несколько несомненных, хотя и изуродованных дарований.
Скабичевского уже не было в живых, почтенный Стасюлевич тоже умер, не успев опубликовать своей папской буллы и предать анафеме шумных и посягнувших на традицию еретиков.
Львов-Рогачевский и Пётр Коган, хотя и считались присяжными критиками и цензорами литературных мод в "Мире Божьем" и в "Русском богатстве", но в усердной преданности своей кто - марксизму, кто - народной воле, - до всего этого парнасского колдовства и волхования не снисходили, и от символистов, декадентов, акмеистов и имажинистов, кубистов и футуристов, отгораживались высокой стеной.
И только умнейший, прозорливый и обладавший редким слухом Ю. И. Айхенвальд правды не убоялся, и так во всеуслышание и заявил:
- Не талант, а преодоление бездарности!
Формула относилась и к властителю дум, и к усердствовавшим ученикам.
Многие съёжились и постепенно стали отходить на старые пушкинские позиции.
А талантливый, бесцеремонный, чуть-чуть разухабистый Корней Чуковский и еще подлил масла в огонь.
"Конечно нельзя отрицать, - писал он с "Свободных мыслях" Василевского (Не-буквы), - версификаторы дошли до точки и многие из них, как в Крыловском луке, достигли пределов изысканности и вычурного совершенства.
Но из лука уже стрелять нельзя, стоит натянуть тетиву, как весь он трещит и распадается на мелкие части.
А ужас в том и заключается, что кто ж теперь в этой необъятной России не пишет гладких стихов?!
От Белого моря до Черного - ни одной корявой строчки, хоть со свечой ищи, не найдешь.
Всё правильно, и всё по стандарту.
А поэзии и в помине нет".
***
Как сейчас помнится:
У входа в большой зал, на площадке мраморной лестницы, опершись головой о дверной косяк, в застывшей, неудобной, упрямой позе, стоит властитель дум и, еле улыбаясь, принимает гостей.
В Литературно-художественном кружке большой вечер.
Из Парижа приехал Поль Фор, принц поэтов.
Все притворяются, что знают принца чуть не с колыбели.
На самом деле никто о нем понятия не имеет.
Ни князь А. И. Сумбатов-Южин, который, быстро пожав руку хозяину, виноватой походкой проходит прямо в игорный зал.
Ни молодой Найденов, скромно стоящий и счастливый: "Дети Ванюшина" в сотый раз подряд идут у Корша, и публика и критика захлебываются от восторга.
Семенит, шаркая ножками, со всеми здоровается, всех ласково приветствует милейший, добрейший, благосклоннейший, слегка пунцовый Юлий Алексеевич Бунин, брат Ивана Алексеевича, старшина клуба.
Массивный, светлоглазый, окружённый дамами, проходит Илья Сургучёв, автор "Осенних скрипок", многозначительно поглаживает полумефистофельскую бородку и как улыбается, как улыбается!..
Дальше - больше.
Что ни человек, то толстый журнал, или Альманах "Шиповника", или сборник "Знания" в зелёной обложке.
Арцыбашев, Телешов, Иван Рукавишников.
Алексей Толстой об руку с Наталией Крандиевской.
Сергей Кречетов с женой, актрисой Рындиной.
Иван Алексеевич и Вера Николаевна Бунины.
Осип Андреич Правдин, обязательный кружковский заседатель.
Рыжебородый Ив. Ив. Попов.
Морозовы, Мамонтовы, Бахрушины, Рябушинские, Тарасовы, Грибовы, - всё это московское, просвещенное купечество, на всё откликающееся, щедро дающее, когда угодно и на что угодно - на Художественный театр, на Румянцевский музей, на "Освобождение" Струве, на "Искру" Плеханова, на памятник Гоголю, на землетрясение в Мессине.
Молодая, краснощёкая, пышущая здоровьем, еще только вступающая в жизнь и на Парнас, Марина Цветаева, которую величают Царь-девица.
Летит, сломя голову, в полинявшей визитке, в полосатых брючках, худосочный, подвижной, безобидный, болтливый, всех и всё знающий наизусть, близорукий, милый, застольный чтец-декламатор, Владимир Евграфович Ермилов.
Непременный член присутствия, Николай Николаевич Баженов, не успевший переодеться, и так и приехавший со скачек, в сером рединготе и с серым котелком подмышкой.
Молодой, блестящий, в остроумии непревзойденный, про которого еще Дорошевич говорил, - расточитель богатств, - театральный рецензент "Русского слова", Александр Койранский.
Старый москвич и старый журналист, В. Гиляровский, по прозвищу дядя Гиляй.
И за ними целая ватага молодых, начинающих, ревнующих, соревнующих, поэтов, литераторов, художников, актеров, а главным образом, присяжных поверенных и бесчисленных, надеющихся, неунывающих "помприсповов".
Декольтированные дамы, в мехах, в кружевах, в накидках, усердные посетительницы первых представлений балета, оперы, драмы, комедии, не пропускающие ни одного вернисажа, ни одного благотворительного базара, ни одного литературного события, от юбилея до похорон включительно.
Но им и сам бог велел принимать, чествовать приехавшего из Парижа, из города-светоча, из столицы мира - напомаженного, прилизанного, расчесанного на пробор, хлипкого, щуплого, неубедительного, но наверное гениального, ибо коронованного в Cafe des Lilas, принца поэтов, Поля Фора.
Толпа проплыла, прошла, проследовала.
Брюсов покинул дверной косяк, медленно вошёл в притихший зал, сел на председательское место, поднял колокольчик, звонить не стал,- и так поймут.
И глухим голосом, приятно картавя и, конечно, нараспев, как будто в сотый раз читал разинувшим рот ученикам:
Я раб, и был рабом покорным
Прекраснейшей из всех цариц...
представил Москве высокого гостя.
Гость улыбался, хотя ничего не понимал.
Потом и сам стал читать.
И тоже картавя, но по-иному, по-своему.
Москва аплодировала, приветствовала, одобряла, хотя не столько слушала стихи, сколько разглядывала напомаженный пробор, черные усики и пуговицы на жилете.
Потом, когда первая часть была кончена и был объявлен антракт, все сразу задвигали стульями и искренно обрадовались, кроме самого Брюсова, который хмурился и смотрел куда-то вдаль, поверх толпы, поверх декольтированных дам и братьев-писателей.