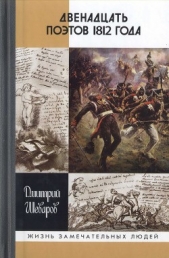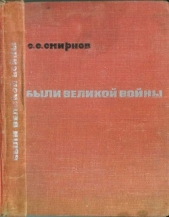Русский Нил

Русский Нил читать книгу онлайн
В.В.Розанов несправедливо был забыт, долгое время он оставался за гранью литературы. И дело вовсе не в том, что он мало был кому интересен, а в том, что Розанов — личность сложная и дать ему какую-либо конкретную характеристику было затруднительно. Даже на сегодняшний день мы мало знаем о нём как о личности и писателе. Наследие его обширно и включает в себя более 30 книг по философии, истории, религии, морали, литературе, культуре. Его творчество — одно из наиболее неоднозначных явлений русской культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тот же самый розовый «самолет» (только так и называли) ходил по Волге и в начале 20-х, был все так же шикарен, каким он описан Розановым, и шестнадцатилетняя барышня решила осуществить детскую мечту — не проехаться, так хоть пройтись по палубе. Гуляя вечером близ Волги со своими детдомовцами (она была воспитательницей), увидела стоящий у пристани пароход — и, наказав детям дожидаться ее, быстро поднялась по трапу и взошла на палубу. И тут же пароход дал гудок, отчалил и стал разворачиваться на Нижний. Она кричала:
"Остановите, у меня дети!"; потом кричала с палубы детям: "Идите домой и ложитесь спать! Я вернусь ночью!" А дальше все происходило как в кинематографе тех лет: красавец адвокат, известный кинешемский сердцеед, купил ей билет (у нее не было ни копейки), уступил свою каюту, помог сойти на ближайшей стоянке, дал денег на обратный билет, поручил ее заботам пожилой дамы. Оказавшейся на ночной пристани, — барышня дождалась обратного уже обычного, неказистого пароходика и вернулась в свой детский дом к завтраку, причем заведующий встретил ее словами: "Как это ты, Клавдя, вчера ребят приструнила — их и слышно не было!" (Дети, потрясенные событием, притихли на всю ночь.)
Спустя двадцать лет, в сентябре 1941 года, высокий черный борт огромного парохода, нависающий над прыгающей на воде шлюпкой, — одно из первых моих собственных воспоминаний. Все происходит у того же кинешемского причала. Сильные волны (как потом поясняли взрослые — "от винта"), крики женщин, прижимающих к себе детей, и мужчинам, изо всех сил навалившимся на весла, удается выгрести: я слышу: "Ну, слава Богу". Мы плывем, эвакуированные из Москвы. Дыхание Волги входит в самый ранний пласт сознания, а в словарный запас — «смычка» (паром, соединяющий левый и правый берег). Изба с русской печью, впервые увиденной. Полати, где спят мои старшие братья, — тоже впервые. Ночью старшие дежурят, чтобы крысы не залезли в колыбель к новорожденной родившейся в Кинешме нашей младшей сестре.
В 1907 году Розанов описывал соседствующие с русскими на Волге народы. "…Из десятков и сотен миллионов… нет из ихнего народа ни одного пьяницы!" — тут слышится, узнается будущая солженицынская интонация: "Вот, говорят, нация ничего не означает, в каждой, мол. Нации худые люди есть. А эстонцев сколь Шухов ни видал — плохих людей ему не попадалось"; близко к первоисточнику, кажется, и само движение мысли.
Что же до "ихнего народа", до "Магометова племени", то отсутствие в нем не только пьяниц, но пьющих продержится какое-то время и после революции. Отец мой, уроженец Дагестана, учившийся в дербентской гимназии, а в 1922 году приехавший юношей в Москву, в Тимирязевскую академию, только годом-двумя спустя решился попробовать вина, хотя правоверным мусульманином не был с первого же революционного года. Когда же спустя полвека я поехала посмотреть на его родной аул в Южном Дагестане — в каждом доме на стол ставили водку и только водку и не могли никак примириться с равнодушием к ней моего русского спутника.
На Волге же дела подвигались и того быстрее. Бензолка- поселок и завод (на нем мой дед с материнской стороны в первые десятилетия века работал механиком-дизелистом) — превратилась в город Заволжск (на левом берегу Волги, против Кинешмы) и Анилзавод — главный поглотитель окрестной рабочей силы, не только мужской, но и женской. Женщины таскали (что делают и до сей поры) на спине по два и три пуда химикатов, получая за это молоко, но предпочитая ему водку. Пили и в царское время, но дальше пьянство росло неудержимо, в него все активней втягивались вслед за мужьями женщины, и в 50-е в городе, по уверению местных, непьющих уже не было. Одному из тех, кого подбирали из канав пьяным именно мертвецки, зашили под кожу то, что положено, но среди заволжского люда бытовало мнение, что "ничего не будет". И жена (!) целый вечер пила с мужем на пару, а потом спокойно отправилась на переправу — ехать к взрослым детям в Нижний Тагил. В Кинешме на вокзале к ней подбежали перед поездом с сообщением, что муж ее только что умер в больнице, и она вернулась, чтобы его хоронить. "Его только на операционный стол успели положить, — рассказывала она эпически. Разрезали, а у него уже весь желудок съежился и почернел". "Да как же ты с ним пила?" — "Да все пили вшитые! Ничего такого не было — вызовут «скорую», и ничего!"
В Заволжске и Кинешме молодые замужние женщины сообщают свои анамнезы, способные потрясти воображение жительниц Москвы: "Я тридцать два аборта сделала, а Наташка — сорок". И год за годом по нескольку раз в год приезжают с Ярославского вокзала в Москву — за колбасой и одеждой. Так ездила до семидесяти восьми лет моя тетя, родная сестра мамы, и с мешками за спиной уезжала обратно к детям и внукам. И все звала: "Приезжай к нам! Уж как же у нас хорошо! Волга!"
И когда в 1985 году я поехала к ней в больницу — только уже не в товарном вагоне, как летом 1941-го, а на верхней боковой полке плацкартного, — увидела, спускаясь к причалу, ту самую церковь с колокольней, которую описывает Розанов (она устояла все эти годы и действует), а потом стала переправляться — и открывшийся волжский простор, упруго бьющий в грудь речной ветер перехватили дыхание. И тогда мне сделалось ясно, как легко становилось хрупкой, замученной жизнью и вечной пьянкой, творившейся вокруг нее, презиравшей водку старой женщине, как только ступала она после поезда со своими мешками и сумками на подвижную палубу и оглядывала великую реку, залитую встающим солнцем.
Розановский пароход, плывущий по стране, которая, как поют современные рокеры, когда-то была моей, по реке, "ровное, сильное, не нервное" дыхание которой «успокаивает» автора повествования, конечно, неизбежно вызовет в памяти у современного читателя фильм Феллини о плывущем по разлому двух веков корабле, о том, как океанской волной начавшегося мирового катаклизма смывает целую культуру. Но корабль Розанова плывет еще за семь лет до мировой войны, за десять лет до февральской революции и всего дальнейшего. Предвидел ли автор почти идиллического повествования это дальнейшее? Ведь он уже видел происходившее год-два назад. Не отсюда ли и идиллия — как бы опережающая ностальгия по обреченному миру?
Розанов, во всяком случае, дает огромную пищу для размышлений о вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем нашем дне. Он неустанно исследует феномен русской жизни, углубляется, въедается в него. Осматривает и так и эдак и будто демонстрирует то, с чем неизбежно столкнутся будущие преобразователи, не столько не знающие, сколько игнорирующие историко-психологическую толщу российской жизни.
Да уже одно только описание оконного крючочка — какой он у нас есть и каким должен быть по европейским кондициям — уже это непоправимо наше, нашенское. Эти "маленькие хитрости"- одно из вернейших, глубочайших отражений нашей жизни в печати последних десятилетий. Если бы журнал "Наука и жизнь" издавался уже тогда, наверное, какой-нибудь умелец пассажир непременно прислал в редакцию описание легкого в домашнем изготовлении приспособления для открывания низко посаженного крючка. "Маленькие хитрости", зощенковские "удивительные идеи" и "счастливые проекты". Приноровление к данности неверно посаженного крючка — нашего поистине недвижимого и пожизненного имущества.
"Мне твои успехи не нужны. Мне нужно твое поведение". Десятый год директорствующий неизвестно по какому праву над крупнейшей библиотекой страны не слышал ведь этих слов директора гимназии. Но через сто лет после него (в начале 80-х) он скажет на ученом совете библиотеки те же слова, всем запомнившиеся именно своей классичностью: "Мне гении не нужны. Мне нужны дураки, но нравственно чистые". Розанов нащупывал то именно, что самовоспроизводится на российской почве, "что-то сущее и от начала веков бывшее", но то, чему, возглашает он, призывая свою детскую гимназическую веру, "настанет конец, настанет! Настанет!".
Со знанием и умением пишет он о "нашей русской молодой бескультурности", по которой в библиотеке парохода, плывущего по Волге, нет ни одной книги, относящейся до Волги ("…до того неумно, что даже растериваешься"), нет ни путеводителя, ни карт, ничего. И сделано это не по злой воле, а, по мысли Розанова, "молодой недогадливостью" юноши или гимназистки. Это незнание, с какого конца взяться за дело.