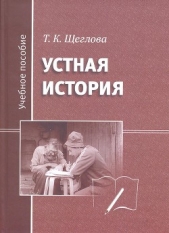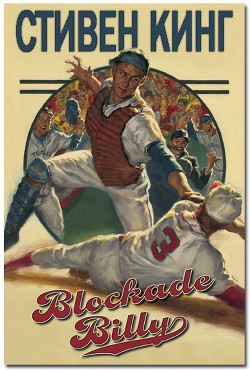Память о блокаде

Память о блокаде читать книгу онлайн
Настоящее издание представляет результаты исследовательских проектов Центра устной истории Европейского университета в Санкт-Петербурге «Блокада в судьбах и памяти ленинградцев» и «Блокада Ленинграда в коллективной и индивидуальной памяти жителей города» (2001–2003), посвященных анализу образа ленинградской блокады в общественном сознании жителей Ленинграда послевоенной эпохи. Исследования индивидуальной и коллективной памяти о блокаде сопровождает публикация интервью с блокадниками и ленинградцами более молодого поколения, родители или близкие родственники которых находились в блокадном городе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Интервьюер: В Чечне?
Информант: В Чечне, да. Не Кадыров [81], а кто-то из правительства тоже. И вот он, и он с такой обидой говорил, ведь по телевизору ведь только и говорят, где у нас что взорвали, где у нас кого убили, где у нас какая прошла зачистка. А почему не говорят, что мы в этом году собрали урожай, который ни разу в советской жизни не собирали? Почему не говорят, что у нас восстановлены виноградники? Почему не говорят, что мы выпускаем наше знаменитое вино? Почему не говорят, сколько школ у нас работает, сколько больниц у нас работает? А почему говорят только о том, что разрушено, кто убит и кто что? И у него такая обида в голосе, что действительно ему было обидно, что, почему ничего хорошего о Чечне не скажут. И я его понимаю, действительно, можно обидеться. (Смеется.) Так что, в общем, все это… Все это очень интересно… (Конец записи.)
Интервью с Татьяной Антоновной
Информант: Так… Ну и… ну можно рассказывать?
Интервьюер: Да, расскажите, пожалуйста, где вы родились, когда, кто были ваши родители, для начала просто…
Информант: Да. Я [82] родилась 13 апреля 1932 года в Ленинграде, у меня была только одна мама. Папа от меня отказался еще почти до моего рождения. И маме, конечно, тяжело было меня воспитывать, очень тяжело. Она из деревни свою маму пригласила, и вот бабушка со мной сидела. Ну что, ходила я в детский садик, здесь тоже вот на четырнадцатой линии, я помню. Мама работала на заводе Котлякова [83], потом бабушка пошла работать на завод Котлякова, а потом, когда я стала взрослая, я тоже работала на заводе Котлякова. Вот. И я так помню себя… что нам от завода… (голос: «можно я послушаю?», шум) [84] от завода дали комнату маме. Так, когда я родилась, она… жила у моей второй бабушки, то есть у ее тети. Вот ее… вот моя бабушка и та были родные сестры, а та бабушка… Вот у нее было очень интересно, она уехала… ну она постарше была, она уехала из деревни — ну видно, это было очень давно — и работала служанкой или гувернанткой у статского советника. Это где потом в блокаду мы жили, это канал Грибоедова, дом <…> квартира <…> [85], это я очень хорошо помню. И вот. И, в общем-то, мы в этой квартире и провели всю страшную блокаду. Вот. И вот так как они, две бабушки, меня как бы говоря нарасхват: то у одной, то у другой, так я и росла. Вот закончила первый класс, тогда брали с восьми лет, в школу поступали, я закончила первый класс, и вот началась война. Мы как обычно ездили в деревню под Ленинградом. Ленинградская область, Ефимовский район [86], вот я это помню. Вот. И тут вот, значит, конечно, точно дату я не помню, мне было восемь лет, но я знаю, что нас вернули с вокзала. Вот мы с вещами приехали… или там в поезд не пропускали в вагон, или что, я не знаю, но мы вернулись. Вернулись, вот началась война. И что-то, по моему, еще было… вот война, значит… ну наверное, к осени нас стали эвакуировать. То ли со школы, то ли дети района, я не могу сказать. Нас эвакуировали, собрали вот тут на Малом [87], это я очень хорошо помню, на Малом, и детей было много, и нас эвакуировали тоже — Ленинградская область… поселок Хирово… поселок Хирово. И вот там, значит, мы прожили совсем мало, даже не знаю, что-то месяца два, может быть, а то и полтора — я не знаю, ну в общем, очень мало. Жили мы в школе, целый зал, там кроватки были все, и вот, значит, начались уже бомбежки. И приехала ко мне вот та бабушка, которая жила, вот бывшая-то гувернантка-то. Вот она за мной приехала, бабушка Дуня, и мы, значит, все, в общем, как беженцы уже, один за другим, мы шли в Ленинград. Ну как шли… мы вот, значит, на подводе ехали, была… все на лошадях, то на машинах, то на чем… Мы ехали вот на лошади, потом мы ехали в поезде. И вот я очень хорошо помню, нас сопровождали с одной стороны фашистские самолеты, с другой — наши. Это было так страшно… и я помню, я спряталась даже под лавку. Потому что и бомбежки были, и… а мы ехали в поезде. Народу было очень много. И очень было, и очень было страшно. Ну, в общем, мы приехали в Ленинград, и вот тут я увидала, что уже разбитые стекла, и уже вот, видно, бомбили город. Ну вот, а потом началась, конечно, очень страшная вот эта зима. Вот. И голод начался, и мама… вот мы жили там на канале Грибоедова, и мама уже к нам переехала. А мы жили на девятнадцатой линии, вот на Большом здесь. И вот вторая бабушка, вот бабушка Лина — это мамина мама, она уже заболела дистрофией, то есть она уже не ходила, и ее в больницу Ленина здесь у нас положили, на Большом проспекте. И вот я помню, что я еще ходила к ней. И она еще… она такая неграмотная все говорила: «Нам дают каклеты… каклеты дают…» И такая была жизнерадостная. Ну вот. А потом, значит вот, мама однажды ее навестила, уже там мы жили… навестила ее, и пришла вся в слезах, и говорит, что я была… Это было зимой. Это было зимой. Мама тоже уже об этом свидетельствует ее реплика «вот тут» — информантка на момент записи плохо ходила… пришла такая и говорит, что я была у мамы и мама померла… Баба Дуня спрашивает: «Как?» Она говорит: я пришла в больницу Ленина и смотрю, значит, что грузовики стоят с трупами, я, говорит, спрашиваю, как мне пройти в то отделение — там, где вот баба Лина лежала. А говорят, что то отделение замерзло, лопнули все трубы. И в отделении уже никого нет. Все, кто там лежали больные, они все замерзли, и вот они погружены в эти грузовики. «Ну, если сможете, поищите, а вдруг да увидите…» А там они штабелями лежали уже друг на друге, все. Ну, мама стала искать. И увидала. Нам она не сказала, что она там видала, она говорит: «Но бабу Лину я видала». Она лежала на гру… на грузовике. Вот. И вот сестра ее, баба Дуня, очень плакала. Это я как сейчас помню. Естественно, и я плакала. Все мы плакали. А куда их повезли, мы не знаем и не узнавали. И где она похоронена, я не знаю. Да и что-то, я не знаю, и желания даже не было, чтоб найти ее, потому что это очень-очень тяжело. И во всей моей жизни и мама не искала, не наводила справок. Но, естественно, наверное, на Смоленском кладбище, в общих могилах. Ну вот, и ну уж заодно за это, я так скажу, что однажды мы с мамой поехали на Пискаревское кладбище. И было плохо ей, и было плохо мне, и мы никогда не стали ездить на Пискаревское кладбище. Больше я никогда там в жизни не была. И не могу, иначе я там скончаюсь. А мы навещали и, как говорится, ну поминали всех вот на площади Победы. Памятник когда открыли. И 9 мая мы там с ней всегда возлагали цветы… И все равно потом стало нам все тяжелей, тяжелей. Видно, нервы не те. Годы… И тоже перестали ездить. Память осталась только в душе… Вот. Ну, там, значит, там, значит, мы жили, там квартира коммунальная была, как и здесь тоже, ну здесь три семьи жило, а там пять семей. Вот. Там мы остались. Все выехали. Помню, там была Лидочка Б<…> [88], мы с ней более-менее были дружны. У нее был Вовочка, ему было три года, и она уехала, эвакуировали ее, и больше мы так связи с ней не имеем. Ну, наверное, может быть, Вовочка и жив, может быть… Но она-то, наверное, уже померла, она старше меня. Вот. Ну а Вовочка Б<…> [89], может быть, теперь такой… он был младше, я старше, он был младше, может быть, и сейчас живет. Вот. Потом там все тоже разъехались. Была там еще такая Фаина Викторовна, фамилии я ее не помню. Она была акушерка. И вот во время войны и в самую голодовку, я-то была маленькая, я не знала, в чем дело, а к ней приходили женщины, приходили с большими сумками. Там были продукты. Так мои мама с бабушкой дога…что-то так догадывались, а потом, как оказалось, она делала аборты. Приходили женщины, а чем расплачиваться — только продуктами. И вот моя бабушка Дуня дружила с бабушкой, которая была на первом этаже. И вот эта Фаина Викторовна, так как ей, видно, страшно — мы-то вот втроем, а квартира почти пустая, и она стала ночевать спускаться вниз к этой бабушке Шуре. И я знаю, почему знаю, даже не помню. У нее вот такой маленький чемоданчик, такой небольшой (показывает), и там у нее лежало золото. И она с этим чемо… а может быть, потому что они разговаривали, может быть, я это слышала. Вот. И она, как ночевать, она брала этот маленький чемоданчик и к бабушке Шуре спускалась. И вот однажды бабушка Шура пришла, и мы с бабой Дуней спали, она и говорит: «Евдокия Павловна, эта Фаина Викторовна умерла». Баба Дуня спрашивает: «Как умерла?» — «Да вот, наверное, я нечаянно закрыла, наверное, раньше трубу, и она угорела». И говорит… (Небольшая пауза.) Куда-то она ее звала, я не знаю, может быть, вот взять это золото или что, а баба Дуня говорит: «Нет, нет, я никуда не пойду!» Надо же, она стала говорить, что вот у нее ключи от ее комнаты. «Давай сходим, говорит, туда, — говорит. — Наверное, там у нее всего много». А баба Дуня говорит: «Нет! Мы не так сделаем. Давай мы пойдем в домоуправление и позовем домоуправшу!» А я точно знаю, что в то время была домоуправшей невысокого ростика еврейка. И вот, значит, эта пришла, домоуправша, и они вскрыли комнату, туда вошли. Потом стали, значит, там… что-то ходили, там все. Потом баба Дуня пришла, и мама тут была, и говорит, что: «Ольга! Там у нее столько, оказывается, продуктов, там целый склад!» И вот, говорит, сейчас домоуправша своих сыновей позвала, они будут приходить, что-нибудь, мол, и нам перепадет. И вот такие сыновья, такие здоровые, я даже не знаю, лет по двадцать, наверное, такие большие, здоровые парни… забегали, забегали. А что там у нее — там был и керосин, и бензин, и денатурат! В общем, все, что горело, все, что нужно — у нас ведь были пикалки такие маленькие. Видно, это тоже ей нужно было. И там было много продуктов. Там были яйца, там был у нее наварен был целый… целая кастрюля горохового супа на свинине, и что… чего там только не было, там был сахар, конфеты, в общем, склад! И даже вот потом бабушка сказала: стали отвинчивать стол, так в каждой ножке у нее были по банке консервов спрятано. И вот, помню, баба Дуня принесла эту банку… то есть кастрюлю с горохом, и говорит: «Ольга, это нам, значит, дала эта домоуправша». Потом, значит, пришла эта домоуправша и мне говорит: «Деточка, вот такая целая банка варенья, вот по баночкам — ты одну ложечку сюда, одну ложечку сюда — раздели пополам». А я схитрила (смеется): сюда ложечку, сюда нам две! (Смех.) Вот. И, в общем, всего они нанесли. И нам была… это такое было подспорье! Вот. Но это, я не знаю, ну это было вот… Пожалуй, это было после самого тяжелого периода. Это скорее было, наверное, к весне. Может быть, это был февраль, может быть, январь, вот так как-то вот. А вот потом когда вот, сначала-то начался голод, моя мама слегла, лежала. И пришел мой отчим. У меня был отчим, мы с ним мало прожили, очень мало, но он пошел добровольцем на войну. И сказал что: «Леля, я пойду добровольцем, потому что все равно заберут. А добровольцем я пойду — тебе будут платить какие-то деньги, какие-то льготы будут». Ну он ушел. И потом вот он пришел… Ну, наверное, это было… декабрь, январь, вот так что-то. Его ранило, и он лежал в Бологое. Не знаю, это далеко ли, где-то Бологое?