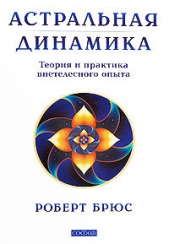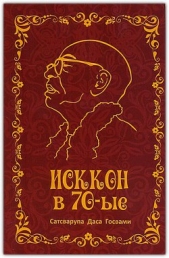Эти странные семидесятые, или Потеря невинности

Эти странные семидесятые, или Потеря невинности читать книгу онлайн
В этом сборнике о 1970-х годах говорят активные участники тогдашней культурной жизни, представители интеллектуальной и художественной среды Москвы – писатели и поэты, художники и музыканты, коллекционеры и искусствоведы. Говорят по-разному, противореча друг другу – и эти противоречивые «показания» дают возможность увидеть непростое время в некоторой полифонической полноте. Сборник проиллюстрирован фотографиями из архивов Георгия Кизевальтера, Игоря Пальмина, Валентина Серова, Владимира Сычева, Игоря Макаревича, многие из которых ранее не публиковались.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Уже в школе я начал думать о том, как выжить в этом мире. Идея выживаемости в СССР у всех преломлялась по-разному. Многие начинали думать о том, как выжить, после того, как их «прижимали». Но у меня – возможно, в силу того что я жил в детском общежитии, а потом и в институте тоже в общежитии, – инстинкт выживаемости был близко под кожей. И я хорошо осознавал, что, когда я окончу институт, необходимость выжить приобретет фундаментальный характер. При этом я строго разделял выживаемость и жизнь. Когда я буду жить так, как я хочу, это будет моя жизнь, но пока я живу в советской, финансовой, семейной сферах, я должен умудриться выжить. А об удовольствиях в зоне выживаемости не идет никакой речи. Когда я женился, у меня сразу же возник вопрос, как выжить в новой ситуации, достаточно тяжелой, надо признать. Например, недавно я прочитал воспоминания Мунка, где он пишет, что хотел бы жениться, чтобы жена следила за его хозяйством, но мысль о том, что он будет видеть одну и ту же женщину каждый день, останавливала его. А у меня эта ситуация была решена с обратным знаком: я хотел жениться, чтобы решить свои проблемы на этом свете, а дальше я надеялся жить как художник. Естественно, такая концепция со временем оказалась беременна возмездием. Я не хочу развивать здесь эту тему; хочу лишь сказать, что сразу же стал думать о том, как заработать столько денег, чтобы осталось на жизнь для себя. Поэтому мысль о том, как найти в Советском Союзе профессию, которая бы приносила удовольствие, то есть возможность зарабатывать деньги и получать при этом удовольствие, никогда не приходила мне в голову. Дело в том, что я настолько боялся и настолько не мог терпеть общество, в котором я жил, – начиная со школьной скамьи, – что со временем понял, что в нем можно только лицемерить, чтобы тебя не прижали и чтобы получить какие-то деньги и оплатить тем самым свое свободное время. Такой жесткий прагматизм и понимание того, что нужно от жизни, чтобы тебя не зажали дверью, привели к моему решению уже на третьем курсе заняться иллюстрацией. Я выбрал иллюстрацию потому, что она мне легче давалась, а кроме того, я немедленно понял, что рисовать нужно то, что требует редактор, и у меня не было с этим никаких проблем, потому что я смотрел на книгу глазами редактора. Вопрос состоял только в том, как заработать оптимальное количество денег в кратчайшие сроки. На первых порах я тратил примерно четыре месяца на изготовление книг, а в дальнейшем у меня уходило на это три месяца из двенадцати, т. е. мне оставалось девять. Я научился очень ловко рисовать всех этих зайцев, собак, пионеров и прочую живность в соответствии с требованиями времени: советская иллюстрация к этому времени совершила полный круг от реализма через авангард к мещанству детской комнаты XIX века.
Кроме того, работа в издательстве давала еще два преимущества: во-первых, легитимность твоего существования – у тебя было право не ходить на службу и работать дома; во-вторых, иллюстрирование книг давало право на вступление в Союз художников, на мастерскую, на поездки в дома творчества и прочие блага жизни.
Все это касается прагматической стороны профессии, но она доставляла и некоторое удовольствие. Для меня самым приятным было изготовление макета: придумать манеру книги, увидеть ее в целом, все расположить было очень интересно. Мне это было и легко: я хорошо умел видеть уже готовую книгу в голове. В то же время процесс ее изготовления превращался в скуку, отвращение и терпеливое ожидание того, когда же он закончится. Впрочем, то же самое происходило и с моими собственными работами: для меня самым интересным был процесс придумывания работ, а не их исполнение.
…Выставки за рубежом начались еще в конце шестидесятых, и в основном они проводились так называемыми сочувствующими, которые, будучи в ужасе от жесткости советского тоталитаризма, делали все, чтобы помочь демократии и «свободе выражения» художников. Это были филантропы от искусства, хотя очень редко возникали и действительно заинтересованные в нашем искусстве коллекционеры. Эти выставки за границей проводились в разных местах в течение всех 1960-х, 1970-х и 1980-х годов, но никак нельзя утверждать, что эти выставки имели хоть какой-нибудь резонанс, кроме узкополитического соболезнования «талантливым дикарям из Африки». С моей точки зрения, это носило не художественный, а традиционно колониальный характер. Запад, испытывая чувство вины перед желтой, черной, красной и прочими расами, обращался так же с Восточной Европой, куда входила и Россия, причем в разгар «холодной войны» на ней делался больший акцент. Таким образом, все подобные выставки получали оттенок конфронтации с режимом и чуть ли не диссидентства, и картины истолковывались соответствующим образом. Так, рисунок «Душ» сопровождался в одном итальянском журнале следующим комментарием: «Это изображение индивида, находящегося под пятой советской бюрократии и ожидающего, что на него прольются хоть какие-то блага, но все они минуют его».
Вначале эти выставки имели для нас то значение, что мы, как все художники, надеялись, что нами заинтересуются. Оказывается, мы, сидя в подвале, делаем нечто такое, что интересно в свободном мире. Мы в бильярд играем здесь на кухне, а «там» уже оказались в классификации на третьем месте!
Но вскоре мы убедились, что эти выставки ничего не дают и не вызывают никаких изменений. Тем более что, как потом выяснилось, они проводились в абсолютно нехудожественных местах. Мы путали понятие «выставки на Западе» с тем, что можно выставиться в отеле, на вокзале, в уборной и где угодно, но все это не будет играть никакой роли. Слово «выставка» имеет очень узкое значение – исключительно в контексте определенных важных институтов, а все остальное является общественной деятельностью. Мы этого не знали, поэтому вся выставочная деятельность той поры носила анекдотический характер, когда мы только слышали, что «у Володи выставка в Париже», а где именно, как, в каких условиях, оставалось тайной.
Экспонировалась в большинстве случаев только графика, потому что она дарилась широким жестом и вывозилась за рубеж пачками, и иностранцы широко открывали глаза от изумления, что от русских художников все можно получить бесплатно, а глаза их при этом приобретали странный блеск. Они не понимали, что отдавалось все даром для того, чтобы работы вывезли в иной, свободный мир, чтобы они не погибли в этой безнадеге, – впрочем, потом эти работы благополучно пристраивались за границей и продавались, о чем художник мог даже не знать.
Для отдельных художников в Москве существовали какие-то коллекционеры типа Сановича, Костаки – для Рабина, Свешникова и т. д. Но ко мне никто не проявлял в то время никакого внимания. Впрочем, Нутович купил у меня одну картину, и еще одну я ему подарил, но это уникальный случай. Был я знаком с Талочкиным, и с Костаки мы все были знакомы, но последний абсолютно не интересовался современным подпольным искусством.
…Отношение к диссидентству в кругах московских художников бытовало разное, но в нашем концептуальном кругу отношения не было никакого. Художники были крайне аполитичны и асоциальны. Причина достаточно проста: Советская власть казалась не социальным явлением, а климатическим. Поэтому бороться с таким положением дел выглядело бы так же, как утром выходить на балкон и бороться с черной тучей, которая висит над городом, махать тряпкой и требовать, чтобы она исчезла. Имелось убеждение, что Советская власть установилась навсегда, как дождь или ветер, поэтому возникало простое соображение, что надо вырыть свою нору, закопаться поглубже и постараться просто выжить в таком климате. Соответственно, отношение к диссидентам – по крайней мере у меня – было как к людям с другой планеты. Конечно, мы все боялись и ненавидели тот мир, в котором оказались по чьей-то воле, но бороться с ним и высказывать публичное негодование не приходило в голову.
Да, в 1970-х ослабла удавка, и появились такие художники, как Комар и Меламид, и стало можно хихикать и высмеивать, но это уже была другая генерация, а в наше время хихиканье как-то не возникало. Однажды ко мне в мастерскую случайно занесло одного диссидента, Якира, и я почувствовал, что ко мне просто залетела шаровая молния. Кто-то привел его ко мне с дурацкой «западной» мыслью, что все неофициальные художники – одновременно и диссиденты, очевидно, не понимая ничего в природе этого явления.