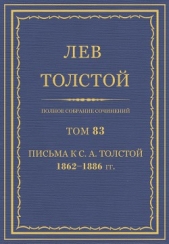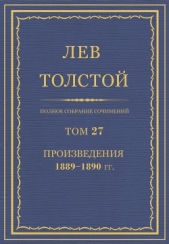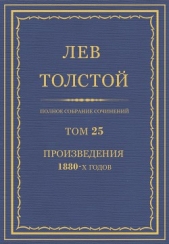Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910-1930-е годы

Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910-1930-е годы читать книгу онлайн
В книге публикуются воспоминания крестьян-толстовцев, которые строили свою жизнь по духовным заветам великого русского писателя. Ярким, самобытным языком рассказывают они о создании толстовских коммун, их жизни трагической гибели. Авторы этой книги — В. В. Янов, Е. Ф. Шершенева, Б. В. Мазурин, Д. Е. Моргачев, Я. Д. и И. Я. Драгуновские — являют собой пример народной стойкости, мужества в борьбе за духовные ценности, за право жить по совести, которое они считают главным в человеческой жизни. Судьба их трагична и высока. Главный смысл этой книги — в ее мощном духовном потенциале, в постановке нравственных, морально-этических проблем.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наш простодушный Вася Демин — стихоплёт и ловкий парень, отмечавший наши воскресенья пышными булочками и сладкими плюшками. Мастер столярного дела — Вася Птицын. Веселый шутник, балагур и немного ворчун, слесарь Миша Дьячков. Украинец, неповоротливый Павло Чепурный, он один из очень немногих, кто как-то не нашел себе места в коммуне. Самоучка, посредственный, но уверенный в себе рисовальщик Сережа Синев. Братья Благовещенские — Костя и Миша. Костя — аскет, с философским настроем ума, изучавший в то время теософию и сумевший убедить меня и том, что я — вторая Ани Безант, которая должна нести миру свет и разумение, а не устраивать свое личное счастье, заводя обыкновенную семью. Он увлек меня кармами, потусторонними мирами, возмездием в жизни будущей (после смерти) за грехи в настоящей. Много страданий причинило нам всем троим (мне, Васе и Косте) мое увлечение Костиной фантазией. Она крепко переплелась с привитым мне с детства стремлением к полному целомудрию и отдаче себя без остатка служению людям. Как применить эти стремления в жизнь, я не знала, и первое, на что решилась, был отказ Васе, который тогда предлагал мне брак. Миша Благовещенский — брат Кости, худой, болезненный весельчак, не разделял Костиных мудрствований. Оба брата были очень музыкальны. Костя, не доучившийся в консерватории, виртуозно играл на мандолине, а Миша на балалайке. Вася иногда подыгрывал им ни гитаре. Мы с Мишей одно время наладились петь дуэтом. Костя нами руководил и аккомпанировал.
В зимнее время Мишиной обязанностью было чинить коммунальную обувь и подшивать всем валенки.
Еще жили у нас одно время Митя и Варя Филипповы, гостили Зоя Григорьевна Рубан с Надеждой Григорьевной и мальчиком её Лёсиком; жила, как и в «Березках», очень близкая нам по духу, умная, ко всем ласковая Вера Ипполитовна Алексеева со всеми детьми, которые по мере сил участвовали в общем труде. В разное время, приезжая и уезжая, жили в коммуне: Дуня Трифонова, бывшая воспитанница колонии, с которой потом нам довелось спать на одной тюремной койке в Воскресенской тюрьме, Пелагея Константиновна, дружившая с Херсонским (фамилии ее не помню); Миша Салыкин с женой. Миша исполнял сильным баритоном классические произведения. До сих пор многие из нас не забыли, как серьезно и проникновенно он пел из «Демона» Чайковского: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно», а еще «Смелей вперед, моряк, плыви, пой песню, пой. Уж цель виднеется вдали. Пой песню, пой…» Помню крепкого скрытного блондина — Клементия Емельяновича Красковского, в свое время много пережившего, с которым мы жили вместе еще у Пыриковых в Смоленской губернии; Борю Непомнящего, всегда страдавшего из-за идейного расхождения со своей женой.
Исключительно яркой личностью был Сережа Булыгин, сын современника Л. Н. Толстого, писавшего и печатавшего о Толстом воспоминания. У них с Васей укрепилась большая дружба, несмотря на некоторые расхождения во взглядах. Сережа верил в божественность Христа. С незаурядным умом у него уживалась какая-то особая мистика, близкая к мистике евангельских христиан, сектантскую веру которых он неизмеримо внутренне перерос. Красивый лицом и мятежный духом, высокий, черноволосый, курчавый, с черными глазами, весь внутренне светящийся, он горел желанием немедленно осуществить всемирное братство. Он верил в практическую возможность этого, в установление для этой цели особой аграрной реформы — землеустройства по системе Генри Джорджа. Сережа долго и упорно думал об этом, составил план и проект реформы и позднее, уже в 30-е годы, невзирая на то, что друзья не советовали ему этого делать, отвез свои материалы в ЦК ВКП(б). Не знаю, ознакомились ли там с существом его предложений, но слыхала потом, что ему дали пакет с сургучной печатью и предложили отвезти его в какое-то учреждение (может быть, в земотдел) по месту его тогдашнего жительства, т. е. в Сибкрай. Потом нам стало известно через его жену, к которой он успел заглянуть на короткое время, что, прочитав содержание пакета, привезенного самим Сережей, его арестовали и он уже больше никогда не вернулся на свободу. Через десяток лет прошел слух что, переправляясь в числе освобожденных арестантов на пароходе, он погиб вместе со всеми на утонувшем судне. Между прочим, дело, по которому Вася был осужден в последний раз (в 1951 г.), неизвестно по каким причинам было связано с делом Сережи, арестованным на много лет раньше, а также с делом Петра Никитича Лепехина, который был взят «по делу Булыгина» (вероятно, только потому, что у него в комнате хранился чемодан Сережи с его бумагами). Потом, когда разбиралось дело Васи и Пети Шершеневых, пересмотрено было и дело Сережи. Его жену вызвали и сказали ей, что муж ее реабилитирован. Реабилитировали и Васю, а о Петре Никитиче мы знаем, что он погиб во время войны от голода и холода на лесозаготовках. Помочь ему было некому…
Еще одно время жил у нас Илюша Колпачников. Я, по поручению Владимира Григорьевича Черткова, навещала его в московской тюрьме, куда он был заключен за отказ от воинской повинности; потом, после освобождения, он приехал к нам и вдруг, по непонятным причинам (надо думать, романтического характера, покончил с собой. Кажется, это было первым самым горестным событием у нас в то время.
Вторым горестным событием, нарушившим нашу солнечную жизнь, был арест Фаддея Ивановича Заболотского. Я помню этот день, в июне 1928 года. Цвели луга, шел сенокос, едко пахло сухим сеном и свежескошенной травой. Мы чувствовали себя молодыми, счастливыми, независимыми. Вдруг в нашу независимость ворвалась чужая воля — арестовали Фаддея. Он, желая быть до конца последовательным антимилитаристом, отказался внести деньги на военный заем. Его посадили в телегу между двумя вооруженными милиционерами и повезли. Мы все, кто тогда жил в коммуне, шли за телегой. Прошли двор, аллейку с жимолостью, свернули на дорогу. Фаддей сидел спиной к лошади и все время спокойно, кротко улыбался нам, а мы плакали и махали ему, пока телега не скрылась из виду.
Хочется привести тут недавнее письмо Юлика Егудина ко мне, в котором он рассказывает о вторичном аресте Фаддея, когда он, отбыв наказание, поселился в коммуне в Сибири. Вот что пишет Юлик:
«Вспоминается суд у нас в столовой, на Алтае. В числе других судят Фаддея Ивановича. Его слова перед судом напоминают последние слова Сократа к судьям, так они звучат правдиво, торжественно, бесстрашно. Он, почти как Сократ, в заключение сказал: „Я кончил. Судите меня и делайте со мной что хотите“. Все почти друзья прослезились от жалости».
Вероятно, об этом же событии мне рассказывал кто-то из алтайских друзей следующее: на собрании, где присутствовали представители власти, Фаддей сказал, что не может участвовать в выборах в Верховный Совет, потому что власть действует насилием, а он против насилия. Представители власти стали ему говорить, что он враг народа, что он «волк в овечьей шкуре», что такие люди, как он, очень вредны и страшны для людей. Лева Алексеев стал в защиту Фаддея говорить, что Фаддей самый миролюбивый человек, что он не обидит и муху. Левину фамилию взяли на заметку. Потом собирали подписи присутствующих на собрании о том, что Фаддей враг народа. Лева отказался подписать. За это его арестовали вместе с Фаддеем. Фаддей не вернулся, Лева же после долгих лет мытарств по тюрьмам и ссылкам вернулся. А сколько таких, как он, не вернулось!..
Где вы — дорогие, милые братья! Вероятно, давно уже на ваших могилах растет, засыхает и вновь вырастает трава, а ведь жизнь для некоторых ваших сверстников еще продолжается! Отчего же на вашу долю выпало так рано уйти? Ведь в вас столько было жизненной силы, правды, энергии! Вы несомненно были лучшими из многих людей, живших на этом свете…
Вернусь к общей жизни в Иерусалимской коммуне. С прибавлением членов коммуны, особенно с появлением в ней семейных, организация труда, распределение денежных доходов, решение многих хозяйственных вопросов — всё стало много сложнее. Появились неудовлетворенные. Кому-то, вроде Пети Шершенева, хотелось иметь побольше свободного времени для живописи, кому-то хотелось удовлетворить уже не такие скромные, как это было у первопришельцев, потребности своих семейных. И потребности, и трудоспособность оказались различными. Митрофану как председателю хотелось во что бы то ни стало сохранить в коммуне дух опрощенчества и братства, какой был в ней в первое время. Ему совершенно чужды и противны были мещанские, с его точки зрения, традиции семейного быта, всякое проявление личного эгоизма. Он требовал подчинения, и его председательство стало носить несколько деспотический характер. Собрания становились бурными, накопившиеся вопросы не находили разрешения. Митрофану предложили снять с себя обязанности председателя, выбран был Вася Шершенев. К этому времени Вася уже был моим мужем. Ему пришлось встать во главе уже очень разношерстного и в то время взволнованного коллектива. Были недовольные матерями. В их адрес направлялись упреки. Васино положение осложнялось еще тем, что в то время и у нас был маленький ребенок, я страстно отдалась материнству и сильно оторвалась душой от коммунальной жизни. Во-первых, ребенок не давал мне возможности участвовать в общих работах, а также присутствовать на общих собраниях и вечерах отдыха; во-вторых, потому что я как бы, если так можно выразиться, опоэтизировала слишком свое материнство. Да и уход за ребенком требовался большой. И потому, что мальчик был слабым и много болел, и еще потому, что воспитывала я его, не имен никого, кто мог бы мне помочь, и руководствуясь книжными указаниями и советами врачей в консультации, т. е. исключительно чисто, аккуратно, по всем правилам и не отступая от режима. В какой-то степени материнство тогда заслонило от меня радостное значение трудового братства нашей коммунальной семьи, не хватало сил и умения сочетать одно с другим. Я часто проводила ночи без сна с больным Федей, а потом вставала в четыре часа утра на дойку. Это было не легко, но что делать!.. «Нельзя в условиях коммунального труда тратить столько времени на ребенка! — говорил Сережа Синев. — У меня нет ребенка, но зато я хочу иметь время для рисования». Некоторые считали несправедливым то, что матери работают меньше холостяков, а получают столько же. На общих собраниях вставал вопрос, как сделать так, чтобы, уделяя достаточное время детям, не ущемлять материального положения холостяков. Количество времени по уходу и необходимые для него средства тоже определяли различно. Мои желания (например, Марте Толкач) казались преувеличенными, она воспитывала своих детей проще и осуждала меня. Осуждали и Юлию Рутковскую, которая одно время вовсе отказывалась из-за маленького сына принимать участие в общем труде, а также отказывалась кому бы то ни было (исключая Дуню Трифонову) доверить своего Витуся. Но конце концов всё понемногу отрегулировалось, нашелся выход, все успокоились и помирились. Много этому содействовала мягкость и миролюбие Коли Любимова (у него тоже были маленькие дети), равновесие и справедливость Вани Рутковского, никогда не защищавшего эгоистические выпады Юлии. Решено было матерям, кроме выходного дня в неделю, иметь еще один выходной, для обслуживания детей; устранили от дойки женщин, страдающих ревматизмом рук, и на нас с Варей Филипповой возложили обязанность ухаживать за всеми детьми коллектива. Сначала противившаяся этому, Юля потом стала доверять нам Витуся и сама включилась в дежурство по уходу за всеми детьми. Мужчины сделали нам манеж из прутьев, который мы выносили на лужок, где и паслись все наши малыши.