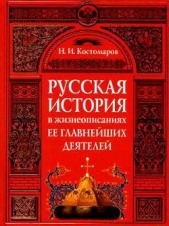История России. Полный курс в одной книге

История России. Полный курс в одной книге читать книгу онлайн
Николай Иванович Костомаров (1817–1885) — виднейший русский историк. В основе его научного метода — создание «народной» истории с детальным анализом племенных особенностей всех национальных групп и общностей. Именно такой подход снискал ему славу выдающегося ученого и обеспечил особую насыщенность его работ, и по сей день остающихся актуальными.
Отличавшийся удивительными способностями (в детстве его звали чудо-ребенком), Н. И. Костомаров явился автором большого количества работ по истории России. Его вершинный труд — «РУССКАЯ ИСТОРИЯ В ЖИЗНЕОПИСАНИЯХ ЕЕ ВИДНЕЙШИХ ДЕЯТЕЛЕЙ» (1872–1885).
В настоящем издании исторические теории ученого представлены в современном изложении.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В 1871 году я напечатал в „Вестнике Европы" три статьи. Первая из них — „История раскола у раскольников" — заключала разбор неизвестного в печати исторического сочинения Павла Любопытного. В этом разборе я избрал себе задачею объяснить культурное значение великорусского раскола в духовной жизни русского народа. Другая статья — „О личности Ивана Грозного" — написана по поводу речи К. Н. Бестужева-Рюмина, где почтенный петербургский профессор вознес царя Ивана до небес как великого человека. Тогда же напечатано было там же рассуждение „О личности Смутного времени". В этой статье я указывал на то неприятное обстоятельство, что многие важнейшие личности знаменитейшего периода нашей истории, как, например, Михаил Скопин-Шуйский, Минин и Пожарский, представляются с такими неясными чертами, которые не позволяют историку уразуметь и в точности очертить их характеры. Статья эта вооружила против меня Ивана Егоровича Забелина и дала повод на его возражение писать в опровержение новую статью в 1872 году. Г. Забелин сообщал такой взгляд, что в России главную роль играл народ всею своею массою, а не типичными личностями, и потому историку не нужно гоняться за отысканием заслуг отдельных исторических лиц.
…Впоследствии на меня начал за то же нападать в московских газетах и Погодин, но последний прямо хотел доказать, что личности, за которыми я признавал неясность по источникам, напротив, очень ясны, и при этом приводил разные летописные похвалы, желая показать, что это именно те черты, в которых я как бы преднамеренно не усматривал никаких характеров. Возражения Погодина отзывались устарелостью, так как при современном состоянии науки всякий занимающийся ею легко мог понять, что чертами характеров нельзя называть похвалы летописцев, расточаемые обыкновенно по общим, предвзятым для всех приемам. Известно, что летописец о редком старинном нашем князе не наговорит несколько лестных слов в похвалу его добродетелям, но приводит обыкновенно такие черты, которые не представляют ничего присущего отдельному лицу, независимо от нравов того времени. С половины 1871 года я принялся за большой труд — писать сочинение „Об историческом значении русского песенного народного творчества". Это было расширение того давнего моего сочинения, которое некогда служило мне магистерской диссертацией. В 1872 году я начал помещать его в московском журнале „Беседа", издаваемом Юрьевым, но печальная судьба этого журнала, присужденного по не зависящим от редакции причинам прекратить преждевременно свое существование, лишила меня возможности окончить печатание моего труда. Я успел выпустить в свет только черты древнейшей русской истории доказацкого периода южнорусской половины, насколько она выразилась в народной песенности…
В 1872 году, продолжая в „Беседе" печатание моего сочинения о русской песенности, я начал писать статью „Предания первоначальной русской летописи", стараясь доказывать, что на события русской истории, до сих пор считаемые фактически достоверными, надобно смотреть более как на выражение народной фантазии, облекшейся в представления о фактах, долго признаваемых на самом деле случившимися… Разные газетные нападки и всякого рода печатные и словесные клеветы мало меня раздражали и вообще почти не мешали ходу моих ученых и литературных занятий, но нервные боли, проявлявшиеся прежде, как и теперь, преимущественно головными и глазными страданиями, составляли для меня постоянное несчастие. Я чувствовал, что под гнетом этих болей мои умственные силы ослабевали, пропадала энергия, мучило невольное бездействие, а если брал над собою волю, то это стоило мне больших усилий и я сознавал, что физические страдания отпечатлевались на моих произведениях, а перо мое делалось вялым, — по крайней мере, как я чувствовал, лишено было той живости, какую имело бы при более нормальном состоянии моих телесных сил. Еще более наводила на меня страх и уныние грустная мысль, что в будущем я должен ожидать себе худшего состояния и быть лишенным зрения, а с ним и возможности заниматься наукою, тогда как занятие это стало для меня необходимым как воздух».
Страх перед возможностью ослепнуть мучил его с юности, но сейчас он был более чем оправдан. Ему бы в таком состоянии получить приветливые слова, нет! Даже вручение премии за «Последние годы Речи Посполитой» оказалось поводом для отчаяния и негодования: хотя немецкий профессор Герман посчитал этот труд достойным большой премии, Академия решила дать ему малую, отговорившись тем, что у Костомарова нет семьи, следовательно, ему хватит и этих средств. Костомаров очень обиделся, он Академии этого так и не простил: больше никогда, ни под каким видом он не желал давать работы на академический конкурс! Обиду он, так же как и ужасы казни, превозмогал работой над монографией о гетманстве Дорошенко.
А в декабре 1872 года у него снова началась сильная боль в глазах. Работать он не мог. «Глазам моим от напряжения делалось все хуже и хуже, — говорил он, — сказали мне, что единственным спасением моим от слепоты будет, если я на продолжительное время стану воздерживаться не только от разбора старых бумаг, но даже и вовсе от чтения и письма. Я чувствовал в глазах страшную ломоту, доводившую меня иногда до крика; боли усиливались по вечерам, когда нужно было употреблять свечи, — лампы уже давно стали невыносимы для моих глаз. При таком состоянии моего зрения, при болях, невозможность предаваться любимым трудам по исследованию занимавших меня научных вопросов повергала меня в сильнейшую тоску, окончательно разбившую мою нервную систему. Я положительно пропадал от бездействия. Тогда по совету многих знакомых я решился приняться за составление „Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей", предназначая эту историю для популярного чтения. Мысль эта уже много раз была настойчиво сообщаема мне знакомыми, но я не поддавался ей, будучи постоянно увлекаем другими вопросами отечественной истории. Теперь по причине решительной невозможности заниматься чтением источников и вообще тою подготовительною работою, какой требуют новые научные исторические труды, я решился последовать внушаемому мне намерению и приступил к составлению „Русской истории в жизнеописаниях". Отдаленные периоды русской истории с ее деятелями были уже во многих частях изучены мною при отдельных исследованиях, и потому предпринимаемая задача не представлялась трудною и беспокойною для моих нервов. Для сбережения глаз я пригласил жену моею бывшего приятеля г-жу Белозерскую читать мне вслух места, которые я укажу в источниках, и писать текст по моей диктовке. Ее сестра, г-жа Кульжинская, изъявила желание быть издательницею моей „Истории". Таким образом, я принялся за труд, подходивший к тому состоянию зрения, в каком оно у меня находилось. В мае 1873 года был уже готов первый выпуск моей „Истории". Отдавши ее в печать, я тотчас принялся за другой и тем же способом работал над ним.
Между тем на короткое время я обратился снова к эпохе Смутного времени. Появившаяся в „Журнале Министерства народного просвещения" статья Е. А. Белова силилась доказывать, что царевич Димитрий не был никем умерщвлен, а действительно сам себя зарезал в припадке падучей болезни, как показывается в следственном деле, которое после его смерти производил в Угличе князь Василий Шуйский. Статья Белова представляла новую попытку вносить в историю Смутного времени парадоксальные понятия, и я счел нужным опровергнуть ее и разобрал следственное дело об убиении царевича Димитрия, чтобы показать несостоятельность вытекающих из него заключений. По мнению, которое я изложил в тогдашней статье, царевич Димитрий был несомненно убит, но действительно ли Годунов давал приказание убить его, или его клевреты заблагорассудили сами угодить ему втайне и совершили убийство без его приказа, но с явным сознанием, что совершенное ими злодеяние будет ему приятно и полезно, — это остается в неизвестности. Что же касается до производства следствия Шуйским, то этот князь, собственно, и не мог по следствию отыскать убийц Димитрия: их уже не было на свете; оставалось поставить дело так, чтобы угодить сильному Годунову, иначе Шуйский не мог бы сделать последнему ничего особенно вредного, но вооружил бы его против себя напрасными попытками сделать ему вред».