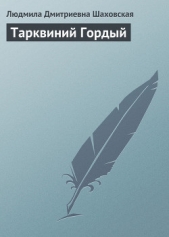Симеон Гордый
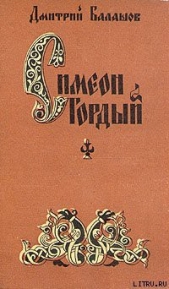
Симеон Гордый читать книгу онлайн
«Симеон Гордый» - четвертый роман из серии «Государи московские» - является непосредственным продолжением «Бремени власти». Автор описывает судьбу сына Ивана Калиты, сумевшего в трудных условиях своего правления (1341–1353) закрепить государственные приобретения отца, предотвратить агрессию княжества Литовского и тем самым упрочить положение Московского княжества как центра Владимирской Руси.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кмети поют. Кони, приободрясь, идут хорошею рысью. Скоро Ока – рубеж родимой земли.
В Коломне трезвонили колокола. Торжественный ход с хоругвями и крестами вышел к самому перевозу. И уже от перевоза, спешив с коня, вели его под руки по сукнам прямо к собору, а оттоле в пиршественные палаты городового наместника.
Тут уж было не до вопросов. Симеон тщетно вертел головою, чая углядеть в толпе кого из Вельяминовых, но вместо того поймал остерегающий взгляд Михайлы Терентьича и услыхал доверительный шепот старика:
– Погодь, княже! Не вдруг!
Погодить стоило. Местные бояре, многие, были сторонниками Алексея Хвоста. Сказывалась рознь принятых коломенских рязанцев с коренными московитами.
Симеон смирился. Ел отвычные блюда родины: редьку, студень и датскую сельдь, мясную уху и уху рыбную, тройную – остынь, и ложка станет стоем в густом, как кисель, наваре, – кулебяку и пироги с капустой и гречневой кашей, запеченный в тесте окорок домашней свиньи, кисели и блины, обильно политые топленым маслом, с сыром и икрою, с припёкой со снеточками, блины с творогом, горячие шаньги с просяною кашей, загибки и ватрушки с творогом, – пил взвар и мед, многоразличные квасы, греческое вино, грыз орехи, варенные в меду, и медовые коржи и опять ел кашу с медом и молоком, и опять пироги с морошкой и вишеньем… Ел, потея, чуя, что уже и не съесть больше ни куска, и все же ел и пил, уже насилу, не чая, как отказать уговорам хлебосольных хозяев…
Осоловелый, вполпьяна (ни до каких расспросов стало ему), повалился в перины боярской изложни, в каменный, тяжелый с перееда сон.
Он проснулся еще в потемнях. Страшно хотелось пить. Запалив от лампадного огонька свечу (не любил будить слуг по ночам – претила суета очумелой спросонь прислуги), нашел в поставце кувшин с квасом, крупно отпил, рыгнул, посидел; поморщась, подумал, что надо выйти во двор – куда тут? Накинул на рубаху ферязь, ноги сунул в татарские остроносые туфли, взял в руки свечу. В сенях кто-то из наместничьих слуг кинулся к нему впереймы, бормоча: «Сичас, сичас!» – проводил до места, дождал, когда князь оправится, подал рукомой. (Татары, те с собою медный кувшин с водой носят!) Симеон, махнув рукою – «отойди!» – вышел на гульбище, на глядень. Постоял, ежась, от речного холода, следя, как плывет слоистый туман. Ночь уже переломилась, и небо светло отделилось от темной еще и окутанной паром земли. Подумалось: поднять кметей и тотчас скакать в Москву! Подумалось – и ушло. Издрогнув, полез вновь во тьму и тепло опочивальни.
Утром была отвальная, после которой Симеон с трудом влез на коня. Однако все просьбы повременить решительно отверг. Упившиеся кмети нехотя седлали и торочили коней. Скликая отставших, провозились часа полтора, и Симеон уже начинал гневать не на шутку, пока, наконец, весь поезд был собран и потянул на рысях, пыля, по московской дороге. Деревни теперь пошли знакомые, почитай свои – ближних бояринов московских, – и хлеба, и сена свои, и тучный скот, и убранные поля радовали как свое, кровное, и уже охватывало и долило нетерпение: своя б воля, помчал впереди всех, загоняя сменных коней!
Остановили глубокою ночью, в ямском селе на Пахре. Спали на попонах, и это ближе пришло к сердцу, чем давешняя коломенская гульба. В яме последний раз сменили коней и к полудню другого дня въезжали в Москву.
Город завиделся издалека, с луговой стороны, и какой же показался маленький! На миг – только на миг – стало страшно: ему ли с его игрушечной деревянной крепостцой спорить с Литвою и ханом, собирать Русь под руку свою и мечтать об одолении векового врага? Впрочем, лишь на миг. Дорога уже тут, за Даниловом, огустела народом. Город был многолюден, и это чуялось по радостному толплению встречающих.
Ему махали, кричали, подносили хлеб-соль. Он спешивался, целовал крест та принимал благословение и, вновь вдев ногу в стремя, легко (сказывалась ордынская выучка!) взмывал на коня и ехал шагом, хотя хотелось – в опор, хотелось не видеть никого, хотелось крикнуть: «Погодите! Я человек! Муж и отец, а не токмо великий князь!» Нельзя. Князя приветствует духовенство в золоте риз. Лица Феогноста и Алексия праздничны. Алексий, благословляя его в свой черед, склочил лобастую голову с клиновидной бородкою, глянул островато (впереди келейное и прилюдное поздравление Алексия с наместничеством, наконец-то высочайше утвержденным цареградской патриархией). Во взгляде, темно-прозрачном и глубоком, проблеснула сдержанная, запрятанная в тайная тайных усмешка сочувственного понимания. У Симеона отеплело на душе. Словно бы этого вот только и не хватало – мудрого, чуть усмешливого ободрения. И еще отеплело на душе, когда, наконец, узрел Василия Вельяминова, что, в сопровождении двух сынов, встречал своего князя за Даниловым монастырем.
А колокола все били и били, и толпа поминутно заливала путь: охально лезли под самые копыта узреть, потрогать, заглянуть в очи – словно родился наново, словно не зрели никогда! «Домой хочу! Неужто не понимают?!» Но опять хлеб-соль, теперь встречают купцы московские. Опять надобно слезать, улыбаться, брать и передавать круглый каравай на серебряном блюде, покрытом тканым рушником…
– Здрав буди, княже! Соскучал, поди, по дому в Орде-то? Жонка-ти ждет, Настасья твоя! – кричали купцы. Улыбались участливо – гневать никак нельзя было и на них…
Наконец-то мост! Глухо бьют копыта в деревянный настил, толпа, валом валя вслед за князем, качает и подтапливает лодьи, на которые уложен наплавной мост. Кто-то из ратных, оступясь, падает в воду, и его тут же, в десяток рук, со смехом и криками, мокрого, достают из реки. На берегу, у Кремника, под народом не видно земли. Толпа запевает «славу». А он вдруг пугается невесть чего: как его встретят дома? Ждут ли его?
Долгою змеею княжеский поезд вползает в Кремник. Опять встречают с хлебом-солью. Теперь – великие бояра Москвы. Надо слезть. Надо одарить хотя словом, хотя взглядом каждого… Господи! Вон же мое крыльцо! Вон там, за этим углом! Он уже почти готов зарыдать от нетерпения, усталости, жуткого ожидания чего-то непонятного себе самому… И все-таки он перемогает себя и сперва идет в собор Михаила Архангела, к могиле родительской. Здесь, в каменной прохладе храма, под этою плитой, лежит тот, кто приуготовил ему сегодняшний день! Отец, сейчас почти чужой, далекий и до ужаса мертвый…
И вот наконец двоевсходное крыльцо княжеских теремов. И в пестрой толпе жонок, слуг, дворовых бояринов и боярынь, – в распашном синем саяне, Настасья, жена. И рядом сенная боярыня держит на руках дочерь. Хотя так! Уставно, прилюдно… Глаза у Настасьи тревожные, радостно-испуганные. (Да, жена, ликуй, я теперь – великий владимирский князь!) Он тяжело восходит по ступеням. Коротко, взяв за плечи, притягивает к себе, целует, словно чужую (отвык!). Целует в черед дочерь; приветствует всех, столпившихся на сенях; и, уже чуя головное кружение, вступает, наконец, в особный, свой покой, глядит на Настасью, на слуг – растерянно. Она, поняв, разом выпроваживает всех, даже и тех, что с платьем и рушником, сама, усадив на лавку, склонясь, стаскивает с него дорожные сапоги, сдергивает опрелые портянки и, не поднявшись с пола, валится головою ему в колени, обнимая полными руками, шепчет: «Ладо! Истомилась я за тобой!» И, не давая Семену ни двинуть рукою, ни сказать чего, торопливо проговаривает: «Баня готова, господине, идешь?»
Он медлит. Оттаивает. Кажется, у него есть и дом, и семья, и не стоило загодя, по-глупому, гневать на Настасью. Не князь ей нужен, вернее, не только князь, а он, он сам, такой, каков есть. Отвечает глухо: «Иду!»
Глава 21
Баня снимает дорожную усталь, мягчит напряжение мышц, навычных к волевому усилию, проясняет мысля. Чистая одежда ласкает тело. Молитвенное велелепие благодарственной службы строжит и укрощает смятенный дух.
– Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! – поет хор.
– Господи, очисти грехи мои, посети и исцели немощи раба твоего, имени твоего ради! – шепчет Симеон одними губами.