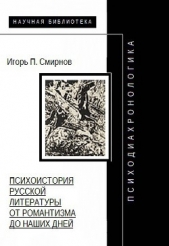От сентиментализма к романтизму и реализму

От сентиментализма к романтизму и реализму читать книгу онлайн
Настоящий том посвящен русской литературе первой половины XIX в. (1800–1855). Заглавие тома «От сентиментализма к романтизму и реализму» отвечает методологии и историко-литературной концепции его авторов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
9
«Повесть о капитане Копейкине» – это, по существу, последняя из петербургских повестей Гоголя. Одновременно с ней была опубликована другая и также петербургская его повесть – «Шинель» (1839–1842). Обе повести являются разными вариантами одного и того же «сюжета» – угрозы открытого бунта против бесчеловечия бюрократического режима доведенных до отчаяния его жертв. «Шинель» была, по-видимому, первым вариантом, о чем говорит ее очевидная связь с «Записками сумасшедшего». Акакий Акакиевич Башмачкин – такая же жертва порабощенности человека чином, как и Поприщин. Но не в пример Поприщину Башмачкин «вполне доволен своим жребием», жребием «вечного», т. е. навек осужденного быть таковым, «титулярного советника» – нищего, беззащитного, всеми презираемого и обижаемого человеко-чина. Мизерность чина и положения «вечного титулярного советника» обезличила Башмачкина, отождествившего себя, свою человеческую личность и свое человеческое достоинство с «должностью» переписчика казенных бумаг. Ревностное, самозабвенное исполнение этой механической, отупляющей должности составляет для Башмачкина единственный интерес и всепоглощающий смысл его существования.
Акакий Акакиевич Башмачкин – безусловно самый ничтожный из всех духовно ничтожных героев Гоголя. Но не раз осмеянное до того самим Гоголем и другими писателями 30-х годов умственное и нравственное убожество мелкого чиновника предстало в «Шинели» крайней степенью забитости и униженности «маленького человека» иерархией чина и, взывая к состраданию, обнажало чудовищный абсурд этой иерархии на всех ее социальных уровнях. Благодаря этому «Шинель» прозвучала для современников защитой и оправданием в «маленьком человеке» Человека, обесчеловеченного нестерпимыми условиями его общественного существования.
Обличение этих условий посредством защиты попранного ими человеческого достоинства падшего человека открывало новую страницу в истории русского реализма, заполненную писателями «натуральной школы», и предвосхищало ее основополагающий и двуединый художественный принцип: «оправдание, – по определению Белинского, – благородной человеческой природы» и «преследование ложных и неразумных основ общественности, искажающей человека, делающей его иногда зверем, а чаще веего бесчувственным и бессильным животным» (9, 175).
Акакий Акакиевич столь же бесчувствен, как и бессилен, но достоин не осмеяния, а сострадания. Именно в этом гуманистическом своем аспекте «Шинель» и оказала огромное воздействие на теорию и практику «натуральной школы». Но к одному только гуманизму проблематика «Шинели» отнюдь не сводится.
В первой редакции повести (1839) она имела другое заглавие: «Повесть о чиновнике, крадущем шинели» (3, 446). Из этого неоспоримо следует, что сокровенное идейное ядро повести обнаруживает себя в ее фантастическом эпилоге – в посмертном бунте Акакия Акакиевича, его мести «значительному лицу», пренебрегшему отчаянием и слезной жалобой ограбленного бедняка. И точно так же, как и в «Повести о Копейкине», превращение униженного человека в грозного мстителя за свое унижение соотнесено в «Шинели» с тем, что привело к 14 декабря 1825 года. В первой редакции эпилога «невысокого роста» привидение, признаваемое всеми за умершего Акакия Акакиевича, «ищущее какой-то затерянной шинели и под видом своей сдиравшее со всех плечей, не разбирая чина и звания всякие шинели», завладев, наконец, шинелью «значительного лица», «сделалось выше ростом и даже [носило] преогромные усы, но… скоро исчезло, направившись прямо к Семеновским казармам» (3, 461).
«Преогромные усы» – атрибут военного «лица», а Семеновские казармы[ 551] – намек на бунт Семеновского полка в 1820 г. То и другое ведет к капитану Копейкину и заставляет видеть в нем второй вариант титулярного советника Башмачкина. В этой связи становится очевидно, что и сама шинель – это не просто бытовая деталь, не просто шинель, а символ чиновного общества и звания.
Каково же было отношение Гоголя к явно тревожившему его воображение «призраку» бунта башмачкиных и копейкиных? Вопрос этот имеет первостепенное значение для понимания идейной эволюции писателя. Но чтобы ответить на него, необходимо остановиться на еще одном неосуществленном замысле писателя – драме или трагедии из истории Запорожья. Гоголь задумал ее в том же, что и «Шинель», 1839 г. и называл «драмой за выбритый ус, вроде Тараса Бульбы».
В 1841 г. Гоголь читал сцены драмы некоторым своим друзьям, в том числе В. А. Жуковскому. Жуковский их не одобрил, и Гоголь тут же бросил все написанное в огонь и больше к этому замыслу не возвращался.[ 552] Но несколько рабочих записей к нему сохранилось. Из них видно, что действительно во многом общий с «Тарасом Бульбой» сюжет драмы осложнен мотивами социального протеста украинских «мужиков» против крепостнического угнетения их польскими панами-помещиками. «Мужики» составляют особую, отличную от «козаков» социальную рубрику действующих лиц, и между ними намечается такой «разговор»: «Вздорожало все, дорого. За землю, ей-богу, не длиннее вот этого пальца – 20 четвериков, 4 пары цыплят, к Духову дню да к Пасхе – пару гусей, да 10 с каждой свиньи, с меду, да и после каждых трех лет третьего вола» (5, 200). О недовольстве крестьян говорят и раздумья одного из военачальников: «Войны, кажется, дожидать не нужно, потому что мужицкая и козацкая сноровка бунтовать, – так чтобы не побунтовать, не может проклятый народ: так вот у него рука чешется, дармоедничают да повесничают по шинкам да по улицам» (5, 199–200). Но мужицко-козацкое восстание тем не менее надвигается: «Народ кипит и толчется на площади, око[ло] дома обоих полковников, требуя их при[нять] участие в деле, начальство над ними. Полковник выходит на крыльцо, увещевает, уговаривает, представляет невозможность» (5, 200). Примечательно, что эта запись сделана на последней странице одного из отрывков второй редакции «Шинели» (см.: 3, 681, комментарии). Логически предшествующая той же записи другая свидетельствует, что роль организатора и руководителя козаков и мужиков, восставших против польских панов, отводилась в драме «молодому дворянину» (5, 200). Здесь опять «высовывается» опрокинутый в прошлое Дубровский, а вместе с ним и будущий Копейкин, ставший атаманом шайки разбойников, появившейся в рязанских лесах (6, 206).
На основании сказанного можно предположить, что, задумав историческую драму «вроде Тараса Бульбы», Гоголь стоял на пороге того, чтобы «угадать» в антикрепостническом «мужицком» протесте исконную и прекрасную черту русского национального характера, совместив ее с опоэтизированным в «Тарасе Бульбе» патриотическим вольнолюбием козацкого народа.
Мы не знаем, что читал Гоголь Жуковскому, – полный текст драмы или, вернее, написанные к тому времени ее отдельные сцены. Но как бы то ни было, уничтожение написанного только по той причине, что оно «не понравилось» Жуковскому, маловероятно. Правильнее предположить, что откровенно антикрепостническая трактовка национально-исторического сюжета вызвала у Жуковского страх за судьбу Гоголя и что, поддавшись этому страху, по настоянию Жуковского Гоголь тотчас сжег написанное и навсегда отказался от своего крамольного, действительно по тем временам весьма опасного замысла. Но его глухой отзвук слышится во второй, созданной опять же в 1839–1841 гг. редакции «Тараса Бульбы» (см. выше с. 547).
Так обнаруживается общность и глубинная суть проблематики таких, казалось бы, разнородных художественных начинаний и свершений Гоголя, как вторая редакция «Тараса Бульбы», драма «в роде Тараса Бульбы», «Шинель», и «Повесть о капитане Копейкине». Все они возникают почти одновременно, на протяжении 1839 г., и свидетельствуют о том первостепенном значении, которое приобретает в это время для писателя только теперь осознанная им реальность и мощь революционного потенциала русской жизни. Отношение к нему Гоголя было глубоко противоречиво, и в этом корень его духовного кризиса, всего того, что привело к сожжению второго тома «Мертвых душ» и изданию «Выбранных мест из переписки с друзьями».