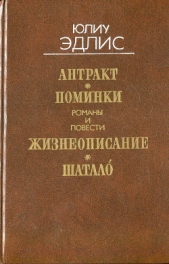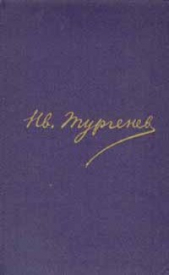Записки о Петербурге. Жизнеописание города со времени его основания до 40-х годов X X века

Записки о Петербурге. Жизнеописание города со времени его основания до 40-х годов X X века читать книгу онлайн
«Записки о Петербурге» Е. А. Игнатовой посвящены истории города - от его основания до 40-х годов XX века. Особый интерес представляет ранее не публиковавшаяся вторая книга, воссоздающая картину городской жизни с 1917 по 1940 г. (на материале архивных документов, редких мемуарных свидетельств, периодики тех лет).
Повествование «Записок о Петербурге» охватывает почти два с половиной столетия истории города. В первой книге, посвященной периоду от основания Петербурга до двадцатых годов XX века, рассказывается о том, что объединяло разные поколения горожан, о замечательных трагических, а порой и странных событиях, о судьбах петербуржцев, прославленных и безвестных. В свидетельствах людей разных эпох искались подробности, сохранявшие атмосферу, воздух времени, благодаря которым по-иному увиделись петровские празднества в Летнем саду, или Дворцовая площадь в день екатерининского переворота 1762 года, или Сенатская 14 декабря 1825-го. Жизнь Петербурга — мастерской, в которой выковывалось будущее государства, поражает разнообразием и завершенностью сюжетов. Одни из них читаются как притчи, другие кажутся невероятными вымыслами, и все они составляют историю «самого отвлеченного и самого умышленного города», как назвал его Достоевский. Первая книга завершается рассказом о переменах, после которых город утратил положение столицы России, вторая посвящена его жизни в 20–30х годах XX века. В основу книги положены устные воспоминания людей старших поколений, дневники, письма, мемуары, литература, пресса того времени, и благодаря разнородности материалов прошлое начинает приобретать объем и напряжение реальной жизни. В этом времени слишком много болевых точек, оно еще не остыло, и описать его во всей полноте предстоит будущим историкам. «Записки о Петербурге» — книга о любви к странному, прекрасному городу и к замечательным людям, присутствие которых наполняло его жизнь духовным смыслом и во многом определяло его судьбу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тем, кто не сталкивался впрямую с ужасом происходящего или закрывал на него глаза, открывался простор для отвлеченных рассуждений. «Я изучил народничество — исследовал скрупулезно писания Николая Успенского, Слепцова, Златовратского, Глеба Успенского — с одной точки: что предлагали эти люди мужику?.. — писал в 1930 году К. И. Чуковский. — Замечательно, что во всей народнической литературе ни одному даже самому мудрому из народников, даже Щедрину, даже Чернышевскому — ни на секунду не привиделся колхоз. Через десять лет вся тысячелетняя крестьянская Русь будет совершенно иной, переродится магически — и у нее настанет такая счастливая жизнь, о которой народники даже не смели мечтать, и все это благодаря колхозам». Чуковский поделился своим открытием с Ю. Н Тыняновым: «Говорил ему свои мысли о колхозах. Он говорит: я думаю то же. Я историк. И восхищаюсь Ст<алин>ым как историк... Если бы он кроме колхозов ничего не сделал, он и тогда был бы достоин назваться гениальнейшим человеком эпохи». Оправдание насилия во имя будущего счастья по сути означало соучастие, такая позиция уродовала человека, превращала в марионетку зла, и диалог замечательных российских интеллигентов завершался в духе Салтыкова-Щедрина: Тынянов просил никому не говорить о его восхищении Сталиным, ведь «столько прохвостов хвалят его [Сталина] теперь для самозащиты», а не искренне. «Я говорил ему, провожая его, — продолжал Чуковский, — как я люблю произведения Ленина. — „Тише, — говорит он. — Неравно кто услышит!” И смеется». Восторг освобождения от собственной воли, от сомнений, от личной ответственности опьянял, и когда Чуковский писал о «прелестной улыбке» Сталина, о счастье видеть, как «ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый», он был искренен. Интеллигенция, с ужасом отшатнувшаяся от жестокости первых советских лет, теперь добровольно отказывалась от бремени «отщепенства», от свободы мысли, от неприятия зла. Пройдут десятилетия, и эти же люди станут уверять, что так думали и чувствовали все, но это ложь — ни задавленный нищетой народ, ни загубленное крестьянство, ни сохранявшая ясность видения интеллигенция не испытывали любви к Сталину. Иван Петрович Павлов направил в 1934 году в Совнарком письмо, в котором сравнивал СССР с древними деспотиями и обвинял государство в сознательном растлении народа: «Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно. И с другой стороны, тем, которые превращены в забитых животных, едва ли можно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства». Подобные мысли и выводы можно встретить во многих записях современников.
По словам Н. Я. Мандельштам, тогда «город не замечал деревню», но как было не заметить появления высохших от голода людей, ютившихся на свалках или в землянках в окрестностях города. Аркадий Маньков записал в дневнике, что по улицам Ленинграда «много бродит, клянча милостыню, людей в лаптях, онучах и латаных широкополых полушубках. Они скитаются по тротуарам целыми семьями, с маленькими ребятами, и просят хором, вытягивая руки. У них темно-коричневые испитые лица». Город не замечал деревню, но опять вернулась карточная система, нормированное распределение хлеба, а толпы недавних хлебопашцев вымаливали на улицах подаяние. Разорение деревни сразу сказалось на росте населения Ленинграда, оно за короткий срок увеличилось почти в два раза 103, а значит, обострились жилищная, транспортная и другие проблемы. Бежавшие из колхозов шли на производство, на самую тяжелую работу, лишь бы осесть в городе, они жили в ужасных условиях — в разгороженных занавесками бараках, в переполненных общежитиях.
Городские власти решили разом решить две задачи: уменьшить жилищный кризис и «почистить» Ленинград, изменить социальный состав его населения. Административная высылка «антисоциальных» и «нетрудовых элементов» началась с первых советских лет, когда из города выселяли аристократов, не служивших в Красной армии офицеров, буржуазию, к концу 20-х годов стали выселять нэпманов, церковников, потом принялись за кустарей, извозчиков и прочую мелочь. Порой у комиссии по выселению возникали сложности, к какой, например, категории отнести букинистов: «Мы запросили Ленсовет, Ленсовет запросил НКВД, как быть с букинистами, так как среди них есть положительный элемент, который принес много пользы, собирая книги... Вопрос тянулся долго, потом пришло разъяснение, что Ленсовету дозволяется определять, если этот букинист полезный человек, его не выселять, а если вредный, то выселять. Сейчас этих букинистов имеется 30 человек». В 1929 году комиссия по выселению освободила для нужд города 24 тысячи квадратных метров жилья, отправив прежних хозяев этих метров обживать сибирские края. Одновременно с выселением проводилось «уплотнение», и жильцы коммунальных квартир оказались в еще большей тесноте и обиде — грубые, шумные, непривычные к условиям городской жизни подселенцы досаждали всем.
Еще недавно казалось, что жизнь налаживается, а тут это нашествие мужиков! Тогда в арсенал городской перебранки прочно вошло презрительное: «Эх ты, деревня!» Из-за притока крестьян город менялся на глазах, и эти перемены его не красили. «На Невском страшная толчея на панелях... — писал в 1931 году Даниил Хармс. — Меня толкают встречные люди. Они все недавно приехали из деревень и не умеют еще ходить по улицам. Очень трудно отличить их грязные костюмы и лица. Они топчутся во все стороны, рычат и толкаются. Толкнув нечаянно друг друга, они не говорят „простите”, а кричат друг другу бранные слова... В трамвае всегда стоит ругань. Все говорят друг другу „ты“... Люди вскакивают в трамвай и соскакивают на ходу. Но этого делать еще не умеют и скачут задом наперед. Часто кто-нибудь срывается и с ревом и руганью летит под трамвайные колеса». Пришлых винили во всем: в безработице, в жилищном кризисе и товарном голоде, а пресса подтверждала: да, все трудности связаны с притоком крестьянских масс. Трудности и нужда не способствуют добрым чувствам, у горожан не было сочувствия к беглецам из деревни. А у пришлых крестьян был свой счет к городу: деревню грабили, чтобы обеспечить едой города, в начале 30-х годов голод сгубил пять миллионов крестьянских жизней, а город откликнулся на чужую беду бойкой частушкой:
Телятину, курятину буржуям отдадим,
А Конную Буденную мы сами поедим 104 105.
Город — ненасытное чудовище, которое готово пожрать не только «конную-Буденную», но все плоды труда крестьян и сами их жизни. В 1932 году у К. И. Чуковского был неприятный случай: зашел он в парикмахерскую побриться, разговорился с парикмахером, тот сказал, «что бежал из Украины, оставил там дочь и жену. И вдруг истерично: „У нас там истребление человечества! Истреб-ле-ние чело-вечества. Я знаю, я думаю, что вы служите в ГПУ (!), но мне все равно: там идет истреб-ле-ние человечества. Ничего, и здесь то же самое будет. И я буду рад, так вам и надо!“» 106 А в руках у него, между прочим, бритва, а в голове полная чепуха — это Корней Ивано-вич-то из ГПУ! Нет, народники ошибались, они слишком идеализировали мужика.
Давно ли русская литература скорбела о мужицкой доле, а молодежь из образованных классов готова была жизнь положить за «народ» — и как все переменилось! Видно, тех людей извели под корень, а может, «народ» подменили? Грубые, заполонившие город люди никак не походили на героев тургеневских «Охотничьих рассказов» или некрасовских стихов, теперь их считали не жертвами, а дезертирами колхозного строительства. Однако, как и раньше, были люди, которые видели в крестьянах тот «народ», и их записи перекликаются с литературой прошлого. Леонид Пантелеев стал свидетелем встречи мужиков в пригородном поезде: один, крепкий и основательный, по виду был из раскулаченных, другой был молод и худ. Оба в ветхой одежде, у старшего «на ногах что-то вроде ночных туфель: „Вот до чего дожили. В опорках хожу. Голенища были, да продал“, — сказал он». Они затянули протяжную песню, и «вдруг, не сговариваясь, запевают: „Спаси Го-осподи, люди твоя и благослови достояния твоя“... Старший пристально смотрит на товарища. — „Давно тебя не видел, похудел ты, брат“. — „Похудеешь. Сижу на пище святого Антония, а работаю на 275 процентов“. Старший вдруг закусывает губу, закрывает руками лицо и глухо, навзрыд плачет». Эта сцена в пригородном поезде 1932 года кажется списанной из Некрасова. Другой эпизод того времени был вырван из темноты слепящими фарами автомобиля — Пантелеев успел отшатнуться, а молодой «человек бездомного вида, в потертой кожаной тужурке, с забинтованными ногами, обутыми поверх бинтов в рваные галоши», едва не угодил под колеса. Он сказал Пантелееву, что не боится смерти: «Чего ее бояться. И жизнь не такая уж отличная».