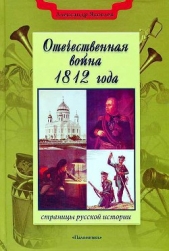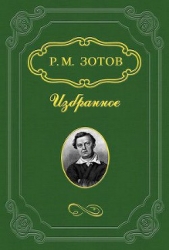Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том I
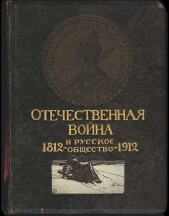
Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том I читать книгу онлайн
Вниманию читающей публики предлагается замечательный 7-томник. Замечателен он тем, что будучи изданный товариществом Сытина к 100-летней годовщине войны 12-го года, обобщил знания отечественной исторической науки о самой драматичной из всех войн, которые Российская империя вела до сих пор. Замечателен тем, что над созданием его трудилась целая когорта известных и авторитетных историков: А. К. Дживелегов, Н. П. Михневич, В. И. Пичета, К. А. Военский и др.
Том первый.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Бастилия (гравюра Volkaert)
С этими отзывами графа Чернышева и других лиц, долго живших во Франции, интересно сопоставить наблюдения русских путешественников конца 70-х гг. Так, в письмах Д. И. Фонвизина к сестре и графу Панину от 1777–78 гг. мы встречам довольно много замечаний о современном общественном и политическом строе Франции. «Первое право каждого француза, — по его словам, — есть вольность, но истинное настоящее его состояние есть рабство; ибо бедный человек не может снискивать своего пропитания иначе, как рабскою работою, а если захочет пользоваться драгоценною своею вольностью, то должен будет умереть с голоду. Словом, вольность есть пустое имя, и право сильного остается правом превыше всех законов». Возвращаясь к тому же предмету в другом своем письме Фонвнзин приходит к заключению, что следует различать вольность по праву от действительной вольности. «Наш народ, — говорит он, — не имеет первой, но последнею во многом наслаждается». От наблюдательного русского путешественника не ускользнули темные стороны старой французской монархии. «Король хотя и ограничен законами, — читаем в одном из писем Фонвизина, — но имеет в руках всю силу попирать законы». Однако, несмотря на это, народная масса обнаруживала вполне искренний патриотизм и неподдельную лояльность. «Все они с восхищением, — замечает Фонвизин о французах, — так привязаны к своему отечеству, что лучше согласятся умереть, нежели его оставить. Последний трубочист вне себя от радости, коли увидит короля своего; он кряхтит от подати, ропщет, однако последнюю копейку платит во мнении, что тем пособляет своему отечеству». В заключение он прибавляет: «Коли что здесь действительно почтить и коли всем перенимать здесь надобно, то, конечно, любовь к отечеству и государю своему». Почти к одинаковому выводу приходить и княгиня Е. Р. Дашкова, которая во время своего пребывания в Париже в конце 70-х гг. вращалась в самом избранном обществе. «Патриотический энтузиазм, — пишет она в своих мемуарах, — еще был национальной гордостью; идея о монархе и гильотине еще так была темна, что Людовик, хотя исподтишка и называли его „королем по ошибке“, был предметом народного обоготворения».

Мирабо (колл. В. М. Соболевского)
Однако к 80-м гг. революционное настроение все сильнее и глубже проникало во французское общество, и уже многим казалось, что данное положение вещей не может привести ни к чему иному, как к страшному перевороту. Вполне понятно, что движение умов, совершавшееся во Франции, должно было неизбежно отразиться на общественном настроении других европейских государств, так как, по справедливому замечанию А. Н. Пынина, «в иных формах старый политический порядок и здесь отживал свое время». Почти повсеместно замечалась реакция против французского рационализма и материализма, и вполне понятно, говорит тот же историк, что «все философское вольномыслие, все поиски за естественным и справедливым устройством человеческого общества не были делом только немногих светлых или необузданных умов, но были также отражением стремлений целых масс, утомленных устаревшими формами быта и искавших избавления в новом разумном устройстве общества и государства».
Но то, что происходило в Западной Европе накануне великой революции, лишь с трудом могло найти себе отклик в России. Несмотря на космополитический характер французских освободительных идей, не было, можно сказать, другой европейской страны, которая была бы так застрахована от революционной пропаганды, как владения императрицы Екатерины — этого философа на престоле. В последние десятилетия перед французской революцией в России достигли своего кульминационного развития те самые рабовладельческие отношения и сословные привилегии, которым «принципы 1789 года» наносили во Франции смертельный удар. «Революционная пропаганда, — говорит Сорель, — не могла подвергнуть Россию серьезной опасности», «не одно расстояние спасало ее, но самый характер цивилизации этой империи». Россия поражала своей культурной отсталостью, «народ в ней, — по словам Рамбо, — не читал ничего, провинциальное дворянство и горожане читали мало, а придворная и чиновная знать читала преимущественно французские книги». Просветительная философия XVIII в. могла быть понята в России крайне поверхностно, как пресловутое «вольтерьянство». Для русских вольнодумцев середины XVIII в. «вольтерьянство» было ни чем иным, как победой здравого смысла над суеверием, как «легкой чисткой человеческих мозгов, а не упорной борьбой за реформу человеческих учреждений и верований». О французских мыслителях самой крупной величины даже наиболее образованные представители русского общества отзывались довольно пренебрежительно. «Д'Аламберты и Дидероты, — читаем в одном из писем Д. И. Фонвизина, — такие же шарлатаны, каких видал я всякий день на бульваре; все они обманывают народ за деньги и разница между шарлатаном и философом только та, что последние к сребролюбию присовокупляют беспримерное тщеславие».

Клятва в Jeu Paume (с ред. грав. из соб. В. М. Соболевского)
От людей старшего поколения Екатерининского общества ускользал смысл происшедшего крупного перелома в характере философской мысли второй половины XVIII в. В 80-х гг. вольтерьянство сделалось уже боевым кличем, означавшим борьбу и торжество свободной мысли над государственной церковью, над догмой, защищаемой силами инквизиции и иезуитизма. Высшая русская знать, поверхностно усвоившая себе французскую цивилизацию, не любила обсуждать вопросы, выдвигаемые передовой европейской общественной мыслью. Граф Сегюр, живший несколько лет в России, замечает в своих мемуарах, что «в петербургских салонах никогда не говорили о политике даже для того, чтобы хвалить правительство».
Сорель, изучивший европейское общество в период великой революции, приходит относительно России к вполне верному заключению. «В ней, — говорит он, — не было почвы ни для политической, ни для гражданской свободы, так как в ней отсутствовали все три наиболее существенные элемента французской революции: привилегированное и бессильное дворянство, честолюбивая и влиятельная буржуазия и крестьяне-собственники». От русского крестьянина, окончательно закрепощенного в царствование Екатерины II, ускользал самый смысл революции, как борьбы за коренной политический и социальный переворот. Дворянство, демократизированное табелью о рангах, не представляло из себя замкнутого сословия с прочной политической традицией. В городах жили купцы, ремесленники и чиновники, но они не являлись тем третьим сословием, которым так сильна была европейская общественность. «То были люди, — говорит тот же Сорель, — вполне подчиненные государству, весьма мало доступные западным идеям и скорее склонные давать им отпор».

Взятие Бастилии (совр. гр.)
Русский дворянин Екатерининской эпохи слишком походил на француза XVIII в.; в нем ярко сказывались симпатии к старому порядку предреволюционной Франции. Жозеф де-Местр дает такую меткую характеристику русского дворянства в исходе XVIII ст.: «Оно было постоянно только в своем непостоянстве». «В дореволюционной Франции нравилось ему преимущественно все старо-французское с его вольномыслием, утонченной цивилизацией, рыцарством чувств и стремлений. Сперва увлекались философами, потом эмигрантами. Как только философия сделалась революционной, демократической, а Франция стала означать французский народ, русские аристократы с одинаковой ненавистью и высокомерием осудили философов, революцию и Францию».

Месть народа после взятия Бастилии (совр. картина)
Такими яркими представителями настроения русской знати в эпоху крушения старого порядка во Франции являются братья Воронцовы, в переписке которых часто затрагиваются французские события. Еще в 1789 г. граф С. Р. Воронцов предчувствует конец французской монархии, но он вместе с тем не верит в прочность республиканского строя. 28 августа 1789 г. он писал брату, что «французские беспорядки не так скоро прекратятся и французы, вместо конституции, создадут себе абсолютную анархию; они будут банкротами, будут вовлечены в гражданскую войну и подпадут под управление еще более произвольное, чем то, которое было ими ниспровергнуто». «Французы, — по его мнению, — созрели для свободы не более американских негров». Взятие Бастилии наводит его на самые грустные размышления: «Это прямо ужасно, что творится в этой несчастной стране, и следует ждать событий еще худших». Членов Национального собрания он считает «сумасшедшими, которых следует перевязать». В Мирабо он видит «злодея, целью которого было ниспровержение всего во Франции». В письме от 25 августа 1792 г. он возмущается теми «ужасами, которые совершаются этой отвратительной французской нацией».