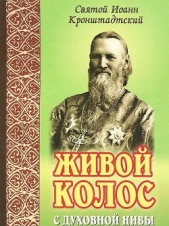Живой меч или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста

Живой меч или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Вина падет на голову виновных независимо от их первоначальных благих намерений. Они сделали свое дело, и теперь они уйдут. И не за превышение полномочий, а за контрреволюцию.
– За контрреволюцию?
– Закон Конвента от 14 фримера ликвидирует революционные армии и все подобные им организации вне столицы. Саботирующие закон революционного правительства – контрреволюционеры и будут наказаны законом военного времени. И начнем мы с псевдосанкюлотской «армии департаментов Рейна и Мозеля». Пора, наконец, разобраться с этими иностранцами-космополитами. Пиши…
Здесь Сен-Жюст запнулся, вспомнив, что Шарль все еще стоит перед ним, ожидая решения своей участи.
– Ну что же, мальчик, ступай, ты свободен! – он впервые попытался смягчить свой бесстрастный лишенный интонаций голос, у него это не очень получилось, но Шарлю было не до таких тонкостей, он попятился назад, готовясь развернуться и пуститься наутек. Уже у самой двери его настиг вопрос комиссара:
– Постой, а что ты вообще делаешь в Страсбурге, если сам из Франш-Конте?
– Учусь, гражданин комиссар. Несколько месяцев назад я приехал в Страсбург изучать греческий язык.
– Греческий? Странно, почему – греческий? Если бы спартанцы, чьему суровому идеалу мы следуем, оставили после себя письменные документы, можно было бы изучать и греческий. А так здесь, на границе с германскими землями, более естественным было бы учить немецкий язык. Да и кто в этом захолустье может преподавать будущему республиканцу греческий?
– Евлогий Шнейдер, гражданин.
– Кельнский капуцин! Оказывается, он еще и анакреонист?
– Он считается одним из лучших переводчиков Анакреона, гражданин.
– Вот и еще один «Анакреон гильотины»… Ну что ж, все равно не буду тебя задерживать, анакреонист Шарль, иди, учись у своего капуцина греческому, если успеешь… Если бы я предположил, что ты сможешь перенять у своего учителя что-нибудь еще, кроме Анакреона, ты бы так легко не отделался – я бы задушил тебя собственными руками! – при последних словах глаза Сен-Жюста вспыхнули, а руки резко сжались в кулаки, и в первый раз испуганный по-настоящему мальчик попятился к двери.
А затем Шарль Нодье увидел на бледном лице комиссара горькую ироническую усмешку.
…Причину этой усмешки мальчик понял через день, когда вместе с другими горожанами увидел на эшафоте Страсбурга своего учителя греческого: бывший австрийский монах-францисканец, бывший общественный обвинитель страсбургского Революционного трибунала и бывший глава Революционной армии, в течение трех месяцев наводившей страх на весь департамент, Евлогий Шнейдер был выставлен на позор перед жителями города перед отправкой его в Париж. Шел снег с дождем. Трясущийся от холода, Шнейдер без сюртука и шляпы со связанными за спиной руками, стоя на самом краю помоста, тупо смотрел прямо перед собой. В его маленьких белесых глазах читалась непомерная тоска.
Быстро собрав свои вещи, Шарль Нодье отбыл домой, на всю жизнь запомнив ироничную усмешку гражданина Сен-Жюста.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
СМЕРТЬ, ИЛИ СА ИPA!
Сен-Жюст. Идеи не нуждаются в людях. Народы умирают, но ими жив Бог.
Итак, свершилось! - Са uра!
Теперь повсюду гремит эта великая песня бедняков, этот гимн бесштанных санкюлотов «Са uра!», означающий, что вскоре все пойдет на лад не только у всех состоятельных и добропорядочных граждан, как, впрочем, было и всегда, но и у них, бедняков-голодранцев, вечно униженных своей нищетой, вечно оскорбляемых богатством немногих и вечно недовольных убожеством своей жизни. Оно гремит это страшное «Са uра!», переводимое всего лишь как ничего не значащее:
Все пойдет на лад!
Но в действительности трансцендентальная сущность этого рефрена санкюлотской песни глубже. Ибо под его скандирование по всей стране то самое естественное состояние человека, к которому так проникновенно взывал женевский мечтатель Руссо, вдруг обрело плоть и кровь, и, зараженные мистическим духом великого женевца, люди вернулись к своему «естественному состоянию», превратив всю территорию Франции от края до края, по замечательному выражению Карлейля, в единую «огненную картину».
Са uра!
Огонь вспыхивает внезапно и пробегает мгновенно, как по бикфордову шнуру, по всем 83 департаментам. Они повсюду, эти лозунги: «Свобода, Равенство, Братство или Смерть!» На всех фронтонах бывшего королевства красуется: «Французская Республика единая и неделимая», и горе тем, кто посягнет на нее!
По всей Франции в один миг происходит «революционизация» населения: вчера еще почти поголовно монархическое, ныне оно поддерживает Республику; «истинных роялистов», готовых умереть за веру и короля, теперь в ней так же мало, как, впрочем, и «неистовых республиканцев»; и хотя по-прежнему находится много безумцев с той и с другой стороны, готовых умереть за правое дело, – большая часть граждан Французской Республики, плохо разбираясь в происходящем, остается если и не безучастными зрителями разворачивающегося апокалипсического действа, то, по крайней мере, людьми, больше думающими о спасении своего живота и своего кошелька, чем о торжестве одного из двух зол – реставрированной империи Людовика Святого или добродетельной Республики первых христиан.
Тем не менее: Са uра!
В Вандее всеобщее озверение доходит до крайнего предела – идет истребление целого народа. Исторической справедливости ради скажем, что первыми начинают мятежники. Республиканцев (и не только пленных солдат, но и местных жителей, заподозренных в симпатиях к Республике) восставшие крестьяне избивают почти поголовно, умерщвляя их после долгих пыток особо мучительными способами: их медленно перепиливают пилами, сжигают заживо, зарывают живыми в землю, разрывают между деревьями, рубят на куски по частям. С большой радостью они убивают толстых буржуа, ненавидя их, как главных «народных кровопийц». Кое-где связанных «наподобие четок» группы республиканцев просто расстреливают из дедовских мушкетов, но в основном забой «живого скота» происходит обычными крестьянскими орудиями – топорами, вилами и косами, этим столь любимым революционными романтиками оружием «восставшего крестьянства».
Са uра!
Еще нет пролетариата, как и нет его излюбленного оружия – булыжника. Но передовой отряд революции – парижские санкюлоты, предпролетариат буржуазной Республики, образующий Революционную парижскую армию во главе с экс-драматургом Ронсеном, выделяет из своего состава достаточное количество батальонов для того, чтобы огнем и мечом принести неразумной крестьянской массе бретонских департаментов «семена свободы». Так начинает действовать Lex talionis – «закон равного возмездия», и на террор отвечают террором. Республиканцы-голоштанники не остаются в долгу у монархистов-мужиков: они не берут пленных, сжигают дотла восставшие селения, докалывают штыками раненых, рубят саблями женщин и детей, насилуют, жгут, грабят.
Са uра!
Варвары преследуются дикарями. Только возле Виньона республиканская военная комиссия в один присест расстреливает 4000 пленных «разбойников-вандейцев», которых зарывают здесь же рядом с городом на каменоломне Мизери. Разложение стольких тысяч трупов (а ведь их не присыпают, как в Париже, негашеной известью!) вскоре дает о себе знать и в самом Виньоне, в котором чуть было не вспыхивает чума.
Са uра!
В это трудно поверить, но то же самое происходит почти во всех французских департаментах.
В Аррасе, родном городе адвоката Максимилиана Робеспьера, другой такой же бывший аррасский адвокат Жозеф Лебон, ближайший друг Неподкупного, не без его стараний ставший сначала мэром Арраса, а потом и избранный в Конвент, вершит правосудие над врагами народа, в том числе, по-видимому, и над бывшими местными недоброжелателями обоих незабвенных юристов Старого порядка Максимилиана и Жозефа. Теперь-то все эти мерзкие завистники и злопыхатели великого Робеспьера должны поплатиться! Гильотина вполне послушна воле бывшего мэра и всемогущего комиссара – он сносит сотни голов, – но чтобы зрелище казни не казалось бы столь утомительным патриотам, а также, может быть, и чтобы поддержать осужденных, – рядом с гильотиной поставлен оркестр. Депутат Лебон, этот великий предвосхититель будущих концлагерных оркестров Третьей империи, игравших праздничные марши своим ведомым на убой товарищам, так же неумолим, как и Неподкупный Робеспьер, – его нельзя ни подкупить, ни разжалобить, – он гильотинирует мужчин, в том числе и глубоких старцев, он гильотинирует женщин, он гильотинирует детей. Ибо Декларация прав человека подразумевает равноправие между гражданами независимо от пола и возраста; и вот осужденные представительницы слабого пола поставлены у гильотины, чтобы видеть, как отрубают головы их детям; и под пронзительные крики матерей гражданин Лебон, становясь под эшафот, сует свою саблю под струйки крови, просачивающейся сквозь деревянные доски революционного жертвенника, взмахивает ею и восклицает: «Ах, как мне это нравится!» Возможно, что здесь не обошлось и без клеветы на бешеного аррасского адвоката, – известно ведь, что Робеспьер, ополчавшийся на «республиканские неистовства» проконсулов Каррье и Фуше (я не говорю здесь о других), ни словом не обмолвился против своего друга Лебона, ничем от них не отличавшегося, потому что и Карье, и Фуше также были и «неподкупны» и «справедливы»; но одно известно точно – оркестр, составленный из патриотов санкюлотизма, в тот момент, когда очередная контрреволюционная голова валилась в корзину аррасского митральера, каждый раз проигрывал тот самый известный санкюлотский гимн: