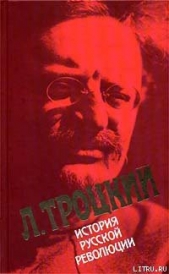История жирондистов Том I

История жирондистов Том I читать книгу онлайн
Альфонс Ламартин (1790–1869) — французский поэт, писатель и политический деятель. Слава Ламартина достигла апогея в 1847 году, когда он выпустил в свет «Историю жирондистов», а по сути историю Французской революции. «История» была издана впервые за несколько месяцев до начала Революции 1848 года, в ходе которой Ламартин возглавил Временное правительство Второй республики. Впечатление от книги было громадным, так как она написана на основании редких документов, к которым Ламартин имел доступ в силу своего политического положения, а также его бесед с людьми — свидетелями тех событий.
«Я желал бы, чтобы будущая республика была жирондистской, а не якобинской» — эти слова Ламартина прямо указывают на его отношение к участникам революции. Недаром многие историки упрекали его в том, что «История» носит субъективный характер, что он сочувственно относится к жирондистам и даже к Робеспьеру, во многом идеализирует их, при этом не скрывая своей ненависти к якобинцам. Именно поэтому спустя пятнадцать лет, переиздавая свой труд, Ламартин сопроводил текст послесловием, в котором попытался объясниться перед читателями. И читать это так же интересно, как и саму «Историю».
Текст печатается с некоторыми сокращениями и в новой редакции по изданию ЖИРОНДИСТЫ ИСТОРИКО-ПРАГМАТИЧЕСКОЕ ИЗСЛЕДОВАНИЕ В ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ С.-ПЕТЕРБУРГЕ 1911.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
При последних словах встал Сен-Жюст. Привязанный к одному Робеспьеру, Сен-Жюст поднимался со своего места в Конвенте лишь для того, чтобы явиться рупором мнений своего властелина. Закончив речь, он возвращался на место, безмолвный и неприступный.
«Вам говорят, — проворчал Сен-Жюст, — что король должен быть судим как гражданин; я же намерен доказать, что он должен быть судим как враг. Некогда народы, столь же удаленные от наших предрассудков, как мы от предрассудков вандалов, изумятся, что наш народ еще рассуждает, имеет ли он право судить тиранов. Изумятся тому, что в XVIII веке отстали даже от времен Цезаря. Тогда тиран был заколот в присутствии всего сената, без всякой иной формальности, кроме двадцати двух ударов кинжала, без всякого иного закона, кроме свободы Рима. А теперь с почтительностью приступают к суду над человеком, взятым с обагренными в крови руками. Мягкость наших характеров составляет большое препятствие к свободе. Говорят о неприкосновенности! Она существовала, быть может, эта взаимная неприкосновенность, между гражданином и гражданином; но между народом и королем нет естественных отношений. Король всегда находился вне общественного договора, который связывает между собой граждан. Он не может прикрываться этим договором, из которого он один составляет исключение… Королевская власть есть преступление, за которое узурпатор подлежит суду перед каждым гражданином! Невинно царствовать нельзя: каждый король — мятежник. Мера вашей философии в этом суде будет мерой свободы в нашей конституции.
К чему воззвание к народу? Целый народ не мог бы принудить и одного гражданина простить своему тирану. Но спешите! — потому что нет гражданина, который бы не имел на него такого же права, какое Брут имел на Цезаря. Людовик — второй Каталина! Убийца мог бы поклясться, как римский консул, что спас отечество, принеся в жертву тирана. Вы видели его изменнические замыслы, мощь его армии; изменник был королем не французов, но нескольких заговорщиков. Какой чужеземный враг сделал нам больше зла? И в нас еще стараются возбудить сострадание! Скоро будут покупать слезы, как на погребальных шествиях в Риме! Наблюдайте внимательно за своими сердцами! Народ! Если король будет оправдан, помни, что мы более недостойны твоего доверия и не считай нас ничем другим, как только изменниками!»
Гора выразила сочувствие этим словам энтузиазмом, с которым она им рукоплескала. На следующих заседаниях зачитали многочисленные письма из департаментов и городов с требованием выдать голову убийцы народу.
Между членами Конвента заседал иностранец, философ Томас Пейн. Родившийся в Англии, участвовавший в борьбе за независимость Америки, друг Франклина, он был автором «Здравого смысла», «Прав человека» и «Века разума» — книг, составляющих страницы нового учения, в которых он приводил политические учреждения и религиозные верования к первоначальным свету и правосудию. Имя Пейна пользовалось большим авторитетом между реформаторами обоих полушарий. Репутация заменяла ему во Франции натурализацию. Пейн, находившийся в тесных взаимоотношениях с госпожой Ролан, с Кондорсе и Бриссо, был избран депутатом от города Кале. Жирондисты ввели его в Законодательный комитет, а Робеспьер выказывал к космополитическому радикализму Пейна все возможное уважение неофита.
Пейн был осыпан знаками внимания со стороны короля, когда явился в Париж умолять о французской помощи Америке. Людовик XVI сделал молодой республике подарок в 6 миллионов, но Пейн не сохранил памяти об этом. Он написал и велел прочесть в Конвенте письмо, позорное по выражениям и жестокое по смыслу: оно являлось оскорблением, брошенным в самую глубину темницы человеку, у которого Пейн еще недавно просил великодушия и которому обязан был спасением своего приемного отечества. «Рассматриваемый как отдельное лицо, этот человек недостоин внимания республики; но как сообщника заговора против народов вы должны его судить, — говорил Пейн. — Что же касается неприкосновенности, то в этом отношении не нужно никакого упоминания. Нельзя видеть в Людовике XVI никого иного, как только человека ограниченного, дурно воспитанного, подверженного частым припадкам пьянства, человека, неблагоразумно восстановленного Учредительным собранием на троне, для которого он не создан».
Госпожа Ролан и ее друзья рукоплескали республиканской грубости Пейна, а Конвент единодушно постановил напечатать это письмо.
В то время Париж и департаменты, страшась голода, волновались, более, впрочем, вследствие паники, чем действительной опасности. Девальвация послужила причиной недостатка хлеба; недостаток хлеба повел к насилию, которое случалось на рынках и даже в частных жилищах. Все малые города вокруг Парижа, житницы Франции, находились в состоянии постоянного мятежа. Комиссары Конвента подвергались оскорблениям, угрозам и прогонялись отовсюду: народ требовал хлеба и священников. Комиссары возвратились в Конвент и выставили напоказ свои обиды и свое бессилие. «Нас ведут к анархии, — говорил Петион. — Мы раздираем себя собственными руками. У этих смут есть скрытые причины. Смуты разражаются в департаментах, самых богатых хлебом. Заговорщики, унижающие Конвент, мы уничтожили тиранию, мы уничтожили королевскую власть; чего вы еще хотите?!»
Мятеж выставлял своим знамением крест. Дантон был этим взволнован. «Все зло не в тревоге за съестные припасы, — сказал он Конвенту. — В Собрание брошена неблагоразумная мысль: не надо платить больше священникам. Опираются на философские идеи, которые мне дороги, потому что я не знаю другого Бога, кроме Бога Вселенной, другого культа, кроме культа справедливости и свободы. Но человек, обиженный судьбой, ищет идеальных наслаждений. Когда он видит, как богач предается удовлетворению всех своих прихотей, лелеет все свои желания, тогда он верит — и эта мысль его утешает, — что в будущей жизни наслаждения умножатся пропорционально лишениям на этом свете. Когда вы в течение некоторого времени будете иметь таких блюстителей нравственности, которые прольют свет в хижины, тогда можно будет говорить народу о философии. Но до тех пор было бы делом варварским, преступлением против нации — отнять у народа людей, в которых он еще надеется найти какое-нибудь утешение. Я считал бы поэтому полезным, чтобы для убеждения народа Конвент объявил, что ничего не хочет разрушить, а лишь все усовершенствовать и что если он преследует фанатизм, то лишь потому, что хочет свободы религиозных мнений.
Но есть еще предмет, который требует неотложного решения собрания, — прибавил Дантон. — Суда над бывшим королем ожидают с нетерпением. С одной стороны, республиканец приходит в негодование из-за того, что этот процесс кажется нескончаемым; с другой — роялист волнуется, и так как он обладает еще и состоянием и гордостью, то вы увидите, может быть, скоро, к великому скандалу для свободы, столкновение двух партий. Все диктует вам поспешить с судом».
Робеспьер, не желая оставить первенство за Дантоном, присоединился к нему с требованием, чтобы «тиран французов, причина всех смут республики, был безотлагательно осужден принять кару за свои злодеяния».
Во время заседания клуба якобинцев Робеспьер, как и Дантон в Конвенте, отверг мысль о лишении священников государственного жалованья. Он провозгласил религию народа ложью и потребовал, чтобы республика оплачивала труд священников, обязанных проповедовать. Таким образом, люди, столь твердые в революционной вере, не отступавшие ни перед кровью своих сограждан, ни перед армиями Европы, ни перед собственным эшафотом, отступили перед могуществом национальной привычки. Они отнимали короля у народа и не смели объявить, что перестают оплачивать духовенство.
Непоследовательность Робеспьера подала повод к саркастическим замечаниям со стороны его врагов. Карра, Горса, Бриссо, редакторы главных газет Жиронды, выражали сожаление по поводу суеверия Робеспьера и выставляли его снисходительность в смешном виде. «Спрашивается, — говорили они, — откуда столько женщин в свите Робеспьера, у трибуны якобинцев, у кордельеров, в Конвенте? Это потому, что французская революция составляет религию, а Робеспьер хочет образовать секту. Он нечто вроде жреца, который имеет своих ханжей, он произносит речи у якобинцев, когда может приобрести там себе последователей, и молчит, когда слово могло бы повредить его популярности. Он отказывается от таких мест, где мог бы служить народу, и добивается таких постов, с которых мог бы его поучать. Он хочет иметь репутацию святого. Говорит о Боге и Провидении, называет себя душою бедных и угнетенных, велит следовать за собой женщинам и людям слабого ума. Робеспьер — первосвященник и никогда не будет никем другим!»