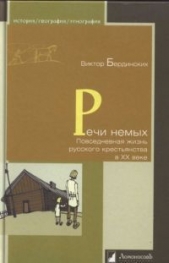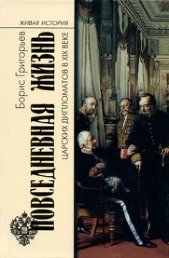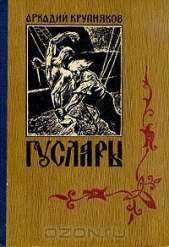Повседневная жизнь русского провинциального города в XIX веке. Пореформенный период
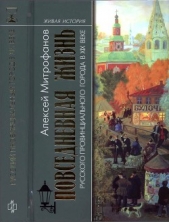
Повседневная жизнь русского провинциального города в XIX веке. Пореформенный период читать книгу онлайн
Повседневность русской провинции XIX века блестяще описана в произведениях Салтыкова-Щедрина, Лескова, Чехова, Горького. Но нарисованная классиками картина неизбежно остается фрагментарной, не совпадая с трудами историков и статистическими данными. Совместить оба этих взгляда — литературный и исторический — призвана новая книга известного журналиста и телеведущего Алексея Митрофанова, увлекательно рассказывающая обо всех сферах жизни губернских и уездных городов, о быте и нравах их жителей, о постепенных изменениях в городском хозяйстве и укладе в период между реформами 1860-х годов и революцией 1905 года. Привлекая самые разные источники — мемуары, газетные очерки, полицейские отчеты, художественные произведения, — автор соединяет их в единую многоцветную мозаику провинциальной России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Речь шла, разумеется, не о реальных городских событиях, а об афише драмтеатра.
Зато театр был готов к различным форс-мажорным ситуациям. Однажды, например, в город с гастролями приехал поэт Давид Бурлюк. Перед выступлением он деловито спросил у администратора:
— А там есть задний выход?
— Есть, а что? Боитесь, что публика изобьет? — с пониманием спросил администратор.
— Конечно, — безо всякого смущения ответил стихотворец.
А как-то раз поэт Лев Мей вышел на подмостки скромного театра города Кронштадта в совершенно пьяном виде. Начал читать какое-то стихотворение, но быстренько запутался, запамятовал продолжение. Прочел еще несколько раз — не выходило. В конце концов махнул рукой, пошел со сцены и громко бросил зрителям через плечо:
— Забыл.
Естественно, что эта непосредственная выходка известного поэта вызвала овацию.
А в тверском театре отличился актер Горев. Вместо подсказанной ему старательным суфлером фразы: «Однако, какой обман» — хлопнул себя ладонью по лбу и воскликнул:
— Однако, какой я болван!
В том же спектакле он сказал, что Тамерлана съели собаки.
— Волки, волки! — кричал бедный суфлер.
— Ну да, и волки тоже ели, — вяло согласился гастролер.
Впрочем, случались и явления ровно противоположные. В частности, воронежский театр был на хорошем счету и у провинциалов, и в российских столицах. Критик А. А. Стахович, видевший в Воронеже гоголевскую «Женитьбу», сообщает: «Вот вам и провинция и провинциальные актеры. Не мешало бы петербургским артистам, исполняющим эти роли, посмотреть, как их играют в провинции (положим, что так сыграть они не в состоянии, для этого нужно иметь дарования Колюбакина и Петрова), но петербургские придворные артисты увидели бы, как добросовестно, с каким уважением в провинции исполняют произведения великого писателя, как умный и талантливый актер обдумывает каждое слово, движение своей роли».
Одновременно с этим поднимается и уровень воронежского зрителя. Ему, воспитанному на Петрове с Колюбакиным, а также избранных приезжих лицедеях, становится довольно трудно угодить. Владимир Гиляровский говорил о городе: «Чтоб заинтересовать здешнюю публику, перевидавшую знаменитостей-гастролеров, нужны или уж очень крупные имена, или какие-нибудь фортели, на что великие мастера были два воронежских зимних антрепренера… Они умели приглашать по вкусу публики гастролеров и соглашались на разные выдумки актеров, разрешая им разные вольности в свои бенефисы, и отговаривались в случае неудачи тем, что за свой бенефис отвечает актер».
«Вольности» же были приблизительно такого плана: «Одна из неважных актрис, Любская, на свой бенефис поставила «Гамлета», сама же его играла и сорвала полный сбор с публики, собравшейся посмотреть женщину-Гамлета и проводившей ее свистками и шиканьем».
Увы, воронежский театр под конец столетия приобретает элементы несерьезности и даже некой ярмарочное™. Актер Владимир Давыдов сокрушался: «Воронежская публика в своих вкусах была очень единодушна… Все требовали веселых пьес и жутких душещипательных мелодрам. Поэтому Лаухин (купец, содержащий театр. — А. М.) строил репертуар на оперетке, водевиле и мелодраме. Серьезный репертуар почти отсутствовал. Критика бранила репертуар, указывая на то, что театр превращен в балаган, а публика всех возрастов и сословий валом валила на оперетку и совершенно игнорировала театр, когда давали «Грозу» или «Марию Стюарт»».
Давыдов жаловался на свою судьбу: «Меня в Воронеже считали за опереточного актера, так редко приходилось играть что-либо другое». Когда же он решил сыграть в свой бенефис пьесу Островского, его пытались всячески остановить:
— Ну что вы вздумали томить нас Островским? Ведь ничего не соберете!
Однако это не мешало горожанам (а тем более жителям окрестных деревень) воспринимать театр с почтением и даже с этаким священным ужасом. Александр Эртель писал об одном своем таком герое: «У театра была выставлена афиша. Николай остановился, начал читать… Подошел офицер под руку с дамой — Николай робко отпрянул. Но соблазн был слишком велик крупные буквы на афише гласили, что будет представлен «Орфей в аду». Побродивши около театра, Николай мужественно отворил дверь в кассу, увидал окошечко, в окошечке пронырливый лик с золотым пенсне на ястребином носу. Господин в шинели с бобрами и в цилиндре брал билет и что-то внушительным басом приказывал кассиру Николай с трепетом отступил назад. «Эй, тулуп! Куда же вы? Пожалуйте!» — послышалось из окошечка, но «тулуп», пугливо и раздражительно озираясь, улепетывал далее».
Но театральные истории — это не только закулисье. Случались и в неменьшей мере обсуждались события по эту сторону условной рампы. Вот в Рыбинске господин Дурдин — известный в городе бретер и скандалист — однажды, будучи в театре, выдвинул ноги так, что люди не могли пройти — им приходилось перепрыгивать через дурдинские конечности, а сделать замечание такому богачу было как-то боязно. Но не таков был зубной врач Флигельтауб.
— Уберите ноги, — произнес он тихо, но уверенно.
— Что?! Ах ты, морда, — разошелся Дурдин.
Тогда Флигельтауб спокойненько так размахнулся и смазал по лицу Ивана Дурдина две сочные пощечины. Тот сразу же вскочил, секунду постоял, после чего потрусил к выходу из зала. Естественно, под жизнерадостное улюлюканье рыбинской публики. Которая не уставала обсуждать пикантнейшую новость: а Дурдин-то — трусоват.
А некий житель города Архангельска писал: «При большом стечении народа в театре всегда случается какой-нибудь беспорядок… кто-нибудь из посетителей райка выпьет, произведет маленький дебош и его уведут на свежий воздух для выздоровления. Но вот чтобы помехой ходу представления были посетители лож бенуара и бельэтажа, это мне пришлось наблюдать только в Архангельске».
Похоже, автор несколько преувеличивал — такие шалости в то время можно было лицезреть практически во всех российских городах.
Кстати, в провинциальных театрах ставилась не одна только классика. Время от времени в газетах, в частности симбирских, появлялись и такие сообщения: «В последний день святок, в зимнем театре праздник завершался грандиозным маскарадом-монстром, начинавшимся в 12 часов ночи, в программе которого танцы, бои конфетти и серпантин, состязания плясунов на сцене, летучая почта. Приз — золотое кольцо за пляску, карнавальное шествие масок «Проводы святок»».
В костромском театре по традиции встречали Новый год: «Все наше общество, соединившись как бы в одну родную семью, встретило этот великий день в жизни человека общим собранием, единодушным весельем… Бал этот был оживлен как нельзя более непринужденным удовольствием и веселыми танцами, продолжавшимися до утра; туалеты дам были свежи, милы и даже богаты, обличая и в провинции уменье одеваться со вкусом и к лицу. Пожелаем, чтобы общество Костромы навсегда сохранило свой прекрасный характер».
В ярославском в 1902 году праздновали юбилей Некрасова. Один из современников писал: «В городском Волковском театре, помню, в эти же празднества нас заставляли по нескольку раз повторять «Эй, ухнем!» и «Зеленый шум». Особенно «неистовствовало» студенчество и вообще молодежь. «Эй, ухнем!» пели мы квартетом на авансцене, перед суфлерской будкой, а в глубине сцены были поставлены участники живой картины «Бурлаки», по известной картине Репина. Декорация Волги, баржи и живые бурлаки — замечательно было красиво и образно».
В тамбовском проходило выступление поэта Шершеневича. Он вспоминал об этом с содроганием: «Театр был полон. Тут я растерялся. На меня глянули зверски тупые лица. Нет, я льщу, называя «это» лицами. Это были андреевские рожи.
О футуризме тут слыхали что-то невнятное. О Куприне, Бунине, Б. Зайцеве и Андрееве говорили: «Молодые, подающие надежды». Дальше познания по литературе не шли.
Я начал говорить. Слова падали в ватное пространство. Все те испытанные издевки и остроты, реакцию которых в Москве мы знали как свои пять пальцев, здесь шли наряду с обычными фразами.