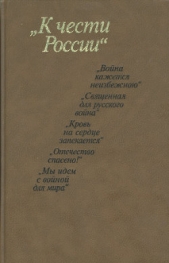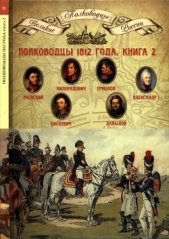Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года

Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года читать книгу онлайн
В эпоху 1812 года ремесло военных считалось в России самым почетным; русский офицер — «дворянин шпаги» — стоял в глазах общества чрезвычайно высоко, можно сказать, был окружен атмосферой всеобщего обожания.
Именно о «детях Марса», до конца дней живших дорогими для них воспоминаниями о минувших боях и походах, об их начальниках, сослуживцах, друзьях, павших в сражениях, эта книга. Автор не старался строго придерживаться хронологии в рассказе о событиях, потому что книга не о событиях, а о главном предмете истории — людях, их судьбах, характерах, образе мыслей, поступках, привычках, о том, как определялись в службу, получали образование, зачислялись в полки, собирались в поход, сражались, получали повышения в чине и награды, отдыхали от бранных трудов, влюблялись, дружили, теряли друзей на войне и на дуэлях, — о том, из чего складывалась повседневная жизнь офицеров эпохи 1812 года.
Особое внимание автор уделяет письмам, дневникам и воспоминаниям участников Отечественной войны 1812 года, так как именно в этом виде источников присутствует сильное личностное начало, позволяющее увидеть за далью времен особый тип военных той эпохи.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Генерал-квартирмейстер штаба Кутузова полковник К. Ф. Толь сообщал об обстоятельствах боя на левом фланге: «Астраханского гренадерского полку полковник Буксгевден, несмотря на полученные им три тяжкие раны, пошел еще вперед и пал мертв на батарее с многими другими храбрыми офицерами». Здесь же нашел свою смерть и командир 2-й легко-конной роты лейб-гвардии артиллерийской бригады капитан Р. И. Захаров, вовремя подоспевший на помощь войскам, сражавшимся у деревни Семеновское. Увидев неприятеля, сосредоточивавшегося к атаке, он, не дожидаясь приказа, с марша развернул все восемь орудий и открыл огонь с ближайшего картечного выстрела. «Вся голова колонны в полном смысле слова была положена на месте», — вспоминал А. С. Норов. Вестфальский корпус остановился надолго. За каждый успех приходилось платить непомерно дорогой ценой. Через четверть часа капитан Захаров был смертельно ранен. «Завидую счастью вашему, вы еще можете сражаться за Отечество!» — сказал он, прощаясь с друзьями. Его начальник генерал-майор П. А. Козен впоследствии писал: «В Бородинском сражении Захаров заслужил Георгиевский крест, а мы не смогли ему поставить даже деревянного». Ф. Н. Глинка восклицал: «Так умирают сии благородные защитники Отечества! Сии достойные офицеры русские. Солдаты видят их всегда впереди. Опасность окружает всех, и пуля редкого минует!..»
По словам генерала H. М. Сипягина, «вообще офицеры наши в Бородинском сражении, упоенные каким-то самозабвением, выступали вперед и падали перед своими батальонами». Н. Любенков в «Рассказе артиллериста о деле Бородинском» вспоминал: «Поручик Давыдов, раненый, сидел в стороне и читал свою любимую книгу: „Юнговы ночи“, а картечь вихрилась над спокойным чтецом. На вопрос: „Что ты делаешь?“ — „Надобно успокоить душу. Я исполнил свой долг и жду смерти!“ — отвечал раненый». Офицер лейб-гвардии Финляндского полка А. Н. Марин, тот самый, который в 1796 году по вине нерадивого наставника чуть не умер в восемь лет, опившись водкой, вспоминал: «В это время подходит ко мне один из моих товарищей, добрый и благородный малый, Великопольский; между прочим говорит: „Ежели постигнет нас несчастье, что мы отдадим Москву, то я желал бы лучше пасть на этом месте, нежели видеть такой позор“. — Исполнилось желание доброго сына отечества: лишь только кончил он последнее слово, — неприятельское ядро раздробило ему голову <…>. „Царство тебе небесное, добрый товарищ“, — пробормотал я». Через некоторое время сам Марин получил тяжелую рану: «Конвойный мой егерь, Гаврилов, поднял меня и на вопрос мой: — Что, Гаврилов, я ранен? — Да, Ваше благородие. — Куда? — В плечо. — Посмотри-ка, не навылет ли? — Никак нет, Ваше благородие. — Я хотел опять поднять ружье, но правая моя рука уже меня не слушалась; кость была перешиблена. Я снял шарф; повесил на нем мою руку, а удалиться не хотел, — да, я не хотел оставить цепь мою без командира <…>. „Прощайте, ребята; спасибо вам, что хорошо дрались“. И Гаврилов повел меня. Подошед к своему полку, явился я к полковому командиру и донес о состоянии моего поста. Он, видя меня обагренного кровию и ослабевшего, приказал идти скорей на перевязку. Оставшиеся добрые товарищи окружили меня, — и мы простились.
Ядра и гранаты осыпали нас на пути к перевязке. <…> Я встретил тут двух моих товарищей: капитана Василья Раля и подпоручика Веселовского, которые были ранены легче меня; и мы пошли все трое по дороге к Можайску. Подвод не было; и Раль, добрый Раль вел меня под руку. Обозы тянулись, раненые тащились; тесно было на дороге. <…> Под вечер пошли тучи и потом пошел дождь. — Трудно было мне идти; но добрые товарищи довели меня до первой деревеньки, в 4-х верстах от места битвы. Все избы наполнены были ранеными и умирающими. Незабвенный мой Раль отыскал мне местечко в одной избе; уложил меня между страдальцами, а сам лег на дворе, подле своей лошади» {45} .
Адъютант Барклая ротмистр В. И. Левенштерн вспоминал о кавалерийской схватке в центре поля битвы, в которой участвовало около десяти тысяч всадников: «Был момент, когда поле битвы напоминало одну из батальных картин <…>. Сражение перешло в рукопашную схватку: сражающиеся смешались, не было более правильных рядов, не было сомкнутых колонн, были только более или менее многочисленные группы, которые сталкивались одна с другой <…>. Пехота, построенная в каре, едва не стреляла со всех фронтов одновременно. Личная храбрость и сообразительность имели полную возможность высказать себя в этот достопамятный день. Я видел во время стычки неустрашимого Алексея Орлова, который был весь изранен; его брат Григорий, адъютант Барклая, красавец собою, лишился в этом сражении ноги, а молодой Клингер и граф Ламсдорф были убиты. <…> Я видел молодого Шереметева, получившего большую рану саблей по лицу: подобная рана всегда делает честь кавалерийскому офицеру…» {46}
Именно в этой схватке был ранен конногвардеец Ф. Я. Миркович: «Наш полк ходил три раза в атаку против кирасир и улан; моя лошадь была ранена пулей в щеку, а после третьей атаки ядро вырвало мне часть правой ляжки, пронзив насквозь мою лошадь. Бедный мой конь был убит на месте, а я не помню, как упал на живот, и, падая, слышал как кто-то вскрикнул: "Полковник, поручик ваш убит!" Я сознавал, что я не убит; но мне казалось, что рана моя была смертельна и что обе мои ноги были оторваны. Я пролежал несколько секунд, как вдруг четыре кирасира подняли меня и понесли на перевязку. Дорогой они говорили, что я не переживу этой раны, и очень обо мне сожалели. Я не потерял сознания, их речи не навели на меня страха смерти, но обратили мои мысли к моим добрым родителям. <…> Множество моих друзей было убито и ранено, дорогой мой Васьков был ранен пулей в плечо» {47} . H. Е. Митаревский, находившийся в резерве, куда долетали неприятельские ядра, вспомнил об участии в битве ополченцев, чье поведение в битве немало позабавило нижние чины регулярных войск: «Мимо нас проходила к Бородину толпа раненых с носилками подбирать раненых. Когда пролетали ядра, ратники мотали головами направо и налево, кланялись, крестились, а некоторые становились на колени. Это была большая потеха для солдат, и каких тут не было острот… — "Кланяйся ниже, борода!.. Сними шапку!.. Крестись большим крестом!.. Бей поклоны, дурак!" — и тому подобное. Подумаешь, один и тот же русский народ мужик и солдат, а какая между ними разница. Один не скрывает внутреннего инстинкта самосохранения, а другой удерживается и стыдится показать свою слабость» {48} .
Во второй половине дня настал черед идти в бой артиллерийской роте, в которой служил Митаревский, оставивший, пожалуй, самые яркие и подробные воспоминания о сражении: «Не могу определить, на каком именно расстоянии были мы от неприятельских орудий, но мы могли наблюдать все их движения; видели, как заряжали, как наводили орудия. Как подносили пальники к затравкам. Вправо от нас, на возвышении, стояла наша артиллерия и действовала; внизу, над оврагом, где мы прежде стояли, была тоже наша артиллерия, в числе которой находились другие шесть орудий нашей роты; с левой стороны от нас тоже гремела артиллерия, но нам за люнетом ее не было видно. Вообще, что делалось на нашем левом фланге — мы ничего не видели. Слышался оттуда только гул от выстрелов до того сильный, что ни ружейных выстрелов, ни криков сражавшихся, ни стонов раненых не было слышно. Команду также нельзя было слышать и чтоб приказать что-нибудь у орудий, нужно было кричать; все сливалось в один гул <…>.
Положение наших батарей с правой стороны, за впадиной на возвышении, было еще ужаснее. Артиллерийская батарейная рота, стоявшая там во время нашего приезда, скоро поднялась назад. На место ее построилась другая. Покуда она снималась с передков и выстроилась, сотни ядер полетели туда. Людей и лошадей стало, в буквальном смысле, коверкать, а от лафетов и ящиков летела щепа. В то время, когда разбивались орудия и ящики, никакого треска слышно не было, — их как будто какая-то невидимая рука разбивала. Сделав из орудий выстрелов по пяти, рота эта снялась; подъехала на ее место другая — и опять та же история. Сменились в короткое время роты три. И в нашей роте, несмотря на ее выгодную позицию, много было убито людей и лошадей. Людей стало до того мало, что трудно было действовать у орудий. Фейерверкеры исправляли должность канониров и подносили снаряды» {49} . Автор воспоминаний признавался: «Страшно быть при орудиях во время перестрелки. Куда ни посмотришь — там ранят, там убьют человека, да еще как убьют!, почти разрывало ядрами; там повалит лошадь, там ударит в орудие или ящик; беспрестанно пред орудиями рвет и мечет рикошетами землю; направо, на возвышенности, на наших глазах разносит артиллерию, а про визг ядер и говорить нечего. Ротный командир был на лошади, а у нас у каждого из офицеров было по два орудия. Убьют лошадь, убьют или ранят человека — нужно сделать распоряжение заменить их; нужно смотреть, чтобы не было остановки в снарядах; нужно обратить внимание, как ложатся снаряды, и приказать, как наводить орудия. Начиная от штабс-капитана, почти каждый выстрел поверяли сами офицеры, и могу сказать, что все исполняли свое дело как следует. Значит, страх не был таков, чтобы забывали свои обязанности и не исполняли их по мере возможности». По-видимому, артиллеристы вынесли самые сильные впечатления после «знаменитого в летописях народных побоища»: «Кончивши дела, офицеры уселись у огня обедать. Перед глазами нашими вместо прекрасной, стройной роты были только остатки ее. Много было колес с выбитыми косяками и спицами, лафеты были с расколотыми станинами, ящики и передки с помятыми крышами и выбитыми боками, на лафетах лежали хомуты с выбывших лошадей. Поколотый поручик перевязывал свои раны; контуженный — натирал чем-то грудь и жаловался на боль. Мне примачивали ногу какими-то спиртами. Ходило несколько солдат, как наших, так и пехотных, с обвязанными руками. Вообще легко раненные предпочитали оставаться при своих командах и не хотели идти в обоз к раненым». По словам участника битвы, «бились весь день упорно, злобно, до тех пор, пока ночь и страшное утомление и с той и с другой стороны не положили конец этому, казалось, вечному и бесконечному дню, этому ужасному убийству. Так кончилась одна из самых кровавых битв, какие только знает история, и все же положение осталось невыясненным». Александр I, узнав о потерях среди полковых командиров, разрешил Кутузову, согласно Учреждению для большой действующей армии, своею властью производить в полковники офицеров, отличившихся при Бородине, с тем чтобы немедленно восполнить убыль в штаб-офицерском составе.