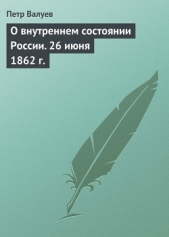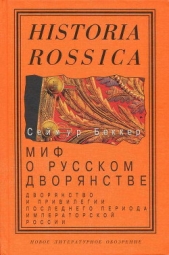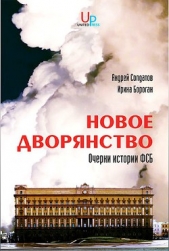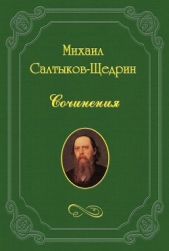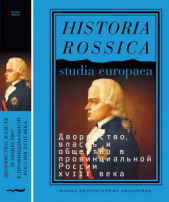Отроку благочестие блюсти...Как наставляли дворянских детей
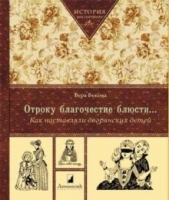
Отроку благочестие блюсти...Как наставляли дворянских детей читать книгу онлайн
Как вырастить своих детей? Как их надо воспитывать, чтобы они стали образованными, достойными, порядочными людьми? Этот вопрос всегда занимал родителей. Обычно о методах воспитания судят по плодам, которые они приносят. И если мы вспомним XIX столетие, «золотой век» России, ее лучших писателей, поэтов, воинов, дипломатов, нежных и преданных их спутниц, то можно сделать вывод, что, пожалуй, лучшего воспитания, чем дворянское, в нашей стране и не было.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
V. Дети и дворовые
Граница, существовавшая между родителями и детьми в дворянских семьях, вычленяла детский мирок в самостоятельное целое, внутри которого дети устраивали себе, насколько могли, собственную жизнь. В этой жизни возникали как собственные внутренние связи между самими детьми, так и многообразные отношения с прочими членами семьи, домочадцами и прислугой.
Дворянские семьи почти всегда были не только многодетны, но и многочисленны и притом построены в четком соответствии с «монархическим принципом». Возглавляли семью родители — отец и мать — «цари» этого маленького мирка. Помимо родителей и их детей, в доме часто жили незамужние сестры отца или матери (как это было в семье А. С. Пушкина) и молодые холостые братья, довольно часто здесь же поселялись вдовые или незамужние тетки и овдовевшие бабушки — всего могло быть до десятка близких родственников.

Все они напоминали «августейшее семейство». Ниже по иерархии стояли домочадцы — всевозможные бедные родственники, чаще — родственницы, а иногда просто призреваемые старушки дворянки, которых приютили лишь потому, что им некому было помочь. В числе домочадцев были и всевозможные компаньонки и чтицы матери, а также воспитанники и воспитанницы, бонны, гувернеры и гувернантки, живущие в доме учителя и еще разного рода «домашние люди» — секретари, управляющий, домашний врач, архитектор, домашний художник (часто из иностранцев) и т. п. Все они составляли «свиту» хозяев дома. Промежуточный слой между домочадцами и прислугой занимали домашние шуты, почти непременные для дворянского дома еще и в начале XIX века, а также примыкавшие к ним по положению калмыки и калмычки, турки и арапчата, карлики и карлицы, развлекавшие хозяев и их близких.

Далее следовала прислуга (дворня), игравшая в домашнем мирке роль «двора»; а в самом низу иерархии находились «подданные» — крестьяне, которые пахали землю, платили оброк и обеспечивали существование всех остальных категорий.
С крестьянами дети почти не общались: те жили отдельно, в деревне, и появлялись на господском дворе лишь по праздникам или в каких-то особых случаях. В деревню детей водили (а чаще возили) достаточно редко, и деревенскую жизнь они видели преимущественно через окошко кареты. Зато со всеми живущими в доме им так или иначе приходилось общаться. И наиболее тесные связи возникали у дворянских детей с обитающими в доме и усадьбе крепостными — дворовыми людьми, которые и были для них главными представителями «народа».
Вплоть до отмены крепостного права в 1861 году дворня в барских домах была по традиции весьма и весьма многочисленна: дворецкий, камердинер, буфетчик, а то и два, ламповщик, по меньшей мере один повар и поварята (готовившие для господ и хозяйских гостей), кондитер, швейцар, истопник, садовник, дворник, выездной лакей (а чаще несколько), буфетный мужик, кухонный мужик, ливрейные лакеи, экономка, кухарка (готовившая для дворни), поломойки, швеи, прачки, горничные разных категорий, а также дворовые мальчики и девочки на побегушках.
Пока сохранялись традиции XVIII века, в аристократических семьях держали также скороходов, гайдуков, форейторов, собственных парикмахеров, ключников, свою охоту — псарей и доезжачих, своих музыкантов и певчих, так что набиралось человек восемьдесят, а в деревнях так и все двести, поскольку к дворне относились и те, кто вел все усадебное хозяйство.
Одевали и кормили дворню в основном «домашними средствами», то есть привозимыми из деревень припасами (лишь на форму — ливрею пускали более дорогое покупное сукно), а также платили ей небольшое денежное жалованье на непредвиденные и карманные расходы и делали по праздникам подарки. Естественно, позднее, уже к середине века, держать такую уйму прислуги большинству дворян стало не по средствам и число дворовых сократилось человек до пятнадцати — двадцати.
Отдельные помещения долгое время имели лишь немногие привилегированные и старые слуги (тот же дворецкий, какие-нибудь старая нянька или дядька, вынянчившие хозяев) и служившие лакеями и горничными иностранцы. Холостые мужчины, кроме личного барского лакея-камердинера, чаще всего жили все вместе в людской, семейным строили на территории усадьбы несколько изб или людских флигелей, а незамужние женщины размещались по углам в девичьей и жилых комнатах и ходили обедать в людскую. Личная прислуга обычно спала в комнате своего господина, на полу у дверей.
Первостепенную прислугу — «дворовую аристократию», в число которой входили и дядька сыновей хозяина, а также няни и кормилицы, — прочая дворня звала по имени-отчеству и всегда вставала в ее присутствии. Привилегией этой категории дворовых был также отдельный от прочей дворни стол, за которым подавались те же блюда, что готовили для господ.
Вообще, мирок прислуги был довольно самобытен: здесь бушевали собственные страсти, интриги и увлечения, имелись свои вкусы и развлечения, своя сословность. «Лакей магната, — свидетельствовал бытописатель, — едва удостаивает наклонением головы лакея мелкого чиновника, а кучер секретаря с особенным уважением смотрит на кучера сенатора и часто гордится, если удостоится его почтенного знакомства».
Дворня была много образованней своих крепостных собратьев — пахотных крестьян. Среди дворовых встречались грамотные и даже начитанные люди, а «дворовая аристократия» в хороших домах щеголяла прекрасными манерами и выглядела совершенно по-барски.
Отношения между дворянами и дворовой прислугой не выходили за рамки крепостного права, но вместе с тем несли на себе отпечаток патриархальности и особенной близости. Дворянство так привыкало к своим дворовым, что просто не могло без них обходиться и часто попадало под их влияние. Даровитыми дворовыми даже гордились. Как писал князь П. А. Кропоткин: «Если кто-нибудь из гостей заметит: „Как хорошо настроен ваш рояль. Ваш настройщик, вероятно, Шиммель?“ — то помещик гордо отвечал: „У меня собственный настройщик“. — „Что за прекрасное пирожное! — бывало, восклицает кто-нибудь из гостей, когда к концу обеда появляется своего рода художественное произведение из мороженого и печений. — Признайтесь, князь, это от Трамбле?“ — „Нет, это делал мой собственный кондитер, ученик Трамбле. Я позволил ему сегодня показать свое искусство“». Если же среди дворовых оказывался самородный актер, поэт или живописец, то его дар непременно демонстрировали гостям и позволяли выслушать восхищенные отзывы зрителей.
Ко всему прочему в жилах господ и дворовых нередко в буквальном смысле текла одна кровь. Вспомним хрестоматийно известный сюжет из пушкинского «Дубровского» — о нравах Кирилы Петровича Троекурова, у которого «множество босых ребятишек, похожих на него как две капли воды, бегали перед его окнами и считались дворовыми». Умрет Кирила Петрович, вырастут «ребятишки» и превратятся в лакеев и гоничных Марьи Кирилловны — а ведь это ее собственные сводные братья и сестры. Подобная ситуация была не только реальна, но и очень распространена.
Далеко не случайно, во время пугачевщины, если крестьяне охотно вешали господ, то дворовые весьма нередко, даже с риском для жизни, их спасали.
Во всех случаях дворовые считались «своими», и с ними не слишком церемонились. Отношение к ним часто напоминало отношение к домашним животным, которым достаются и сладкий кусочек, и поглаживание по шерстке, и пинок ногой, чтобы не раздражали, и трепка веником, если провинятся.
Вплоть до 1760-х годов нравы дворянства оставались грубыми. Не только в барских усадьбах, но и при императорском дворе процветали рукоприкладство и нецензурная брань. И Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна не церемонились не только с прислугой, но и с придворными дамами, происходившими из самых родовитых и громких фамилий. Своих статс-дам и фрейлин царицы бесцеремонно звали «девками» и, осерчав, собственноручно били по лицу и драли за волосы.