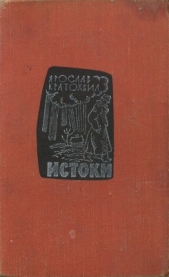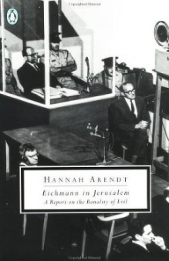Истоки тоталитаризма
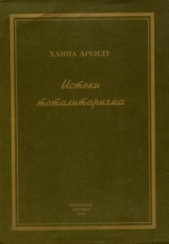
Истоки тоталитаризма читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Было почти трогательно видеть беспомощность европейских правительств, несмотря на осознание ими опасности безгосударственности для их устоявшихся правовых и политических институтов и несмотря на усилия обуздать эту стихию. Взрывных событий больше не требовалось. После того как известное число людей без государства допускали в ранее нормальную страну, безгосударственность распространялась подобно заразной болезни. Не только натурализованные граждане оказывались в опасности возврата к положению безгосударственных, но и условия жизни для всех чужеземцев заметно ухудшались. В 30-е годы стало все труднее ясно отличать безгосударственных беженцев от нормальных иностранцев, проживающих в данной стране. Как только правительство пыталось использовать свое право и репатриировать такого нормального иностранного жителя против его воли, он делал все, чтобы спастись, перейдя на положение безгосударственного. Во время первой мировой войны «вражеские иностранцы» уже открыли огромные преимущества безгосударственности. Но то, что тогда было хитростью отдельных людей, нашедших лазейку в законе, теперь стало инстинктивной реакцией масс. Франция, самая большая европейская территория, принимающая иммигрантов, [652] ибо она регулировала хаотический рынок труда, вербуя иностранных рабочих при необходимости и депортируя их во время безработицы и кризиса, научила своих иноземцев преимуществам безгосударственности, которые они нелегко забывали. После 1935 г., года массовой репатриации правительством Лаваля, от ко торой спаслись только безгосударственные лица, так называемые экономические иммигранты и другие группы более раннего происхождения (балканцы, итальянцы, поляки, испанцы) смешались с волнами беженцев в такой клубок, который никогда уже нельзя было распутать.
Еще вреднее того, что безгосударственность делала с освященными временем и необходимыми различениями между националами и иностранцами, а также с суверенным правом государств в вопросах национальной принадлежности и изгнания, было ее влияние на саму структуру правовых национальных институтов, когда растущее число обывателей вынуждено было жить вне юрисдикции этих законов и без защиты каких-либо других. Лицо без государства, не имевшее права на местожительство и работу, конечно же должно было постоянно нарушать закон. Над ним висела угроза тюремных приговоров без вины, без совершения преступления. Более того, в его случае переворачивалась вся иерархия ценностей, подобавшая цивилизованным странам. Поскольку безгосударственник представлял собой аномалию, для коей не предусмотрен общий закон, то ему было лучше стать аномалией, для которой такой закон предусмотрен, т. е. стать преступником.
Лучшим критерием, по которому можно судить, вытеснен ли кто-то за пределы закона, будет ответ на вопрос, получил бы он выгоду, совершив преступление. Если существует вероятность, что мелкая кража улучшит его правовое положение, по крайней мере на время, то можно быть уверенным: у него отняли человеческие права. Ибо тогда уголовное преступление становится наиболее удобной возможностью восстановить какой-то вид человеческого равенства, даже если он будет признан исключением из нормы. Единственно важно здесь то, что для этого исключения существует закон. Как с преступником, даже и с безгосударственным, с ним не будут обращаться хуже, чем с любым другим обыкновенным преступником, т. е. в этом качестве он станет как все. Он мог получить покровительство закона только как его нарушитель. Пока длится суд и отбывается срок, он будет спасен от того произвола полиции, против которого нет ни юристов, ни апелляций. Тот самый человек, который вчера сидел в тюрьме просто из-за своего присутствия в этом мире, который не имел никаких прав и жил под угрозой депортации или без суда и приговора подвергался какому-то виду интернирования, потому что пытался работать и жить, мог стать почти полноправным гражданином благодаря маленькой краже. Даже если у него не было денег, он мог теперь получить защитника-юриста, пожаловаться на тюремщиков и благосклонно быть выслушанным. Он был теперь не отбросом, а достаточно значительным лицом, чтобы его информировали обо всех тонкостях закона, по которому его будут судить. Он становился вполне респектабельной личностью. [653]
Куда менее надежный и куда более трудный путь подняться из непризнанной аномалии до положения признанного исключения был путь гения. Подобно тому как закон знает только одно различие между людьми — различие между нормальным обывателем и аномальным преступником, так и конформистское общество признает только одну форму последовательного индивидуализма — гения. Европейское буржуазное общество хотело видеть гения стоящим вне человеческих законов, каким-то священным чудовищем, чья главная общественная функция — порождать возбуждение, и потому не имело значения, если гений действительно был человеком вне закона. Кроме того, потеря гражданства лишала людей не только защиты, но и всякого ясно определенного, официально признанного удостоверения личности — факт, самым точным выражением которого были их вечные лихорадочные усилия получить по крайней мере свидетельство о рождении от страны, что их «денационализировала»; и часть этих проблем решалась, когда человек отличался от всех настолько, чтобы вырваться и спастись из огромной и безымянной толпы бесправных. В конце концов, только слава способна вызвать какую-то реакцию на повторяющиеся жалобы беженцев из всех слоев общества, мол, «никто здесь не знает, кто я!» И вправду, возможностей у знаменитого беженца было больше, точно так же как имеется больше шансов выжить у собаки с кличкой по сравнению с бродячей безымянной дворнягой. [654]
Национальное государство, неспособное обеспечить законность для тех, кто потерял покровительство своего прежнего правительства, передавало все такие дела полиции. В Западной Европе это был первый случай, когда полиция получила власть действовать самостоятельно, прямо управлять людьми; т. е. в одной из областей общественной жизни она перестала быть простым орудием исполнения и слежения за соблюдением законов, но превратилась в правящий властный орган, независимый от правительства и министерств. [655] Сила и свобода полиции от закона и правительства росли прямо пропорционально притоку беженцев. Чем больше доля безгосударственных и потенциально безгосударственных во всем населении страны (в предвоенной Франции она достигла 10 процентов), тем больше опасность постепенного перерождения ее в полицейское государство.
Без сомнения, тоталитарные режимы, где полиция достигла вершин власти, особенно желали закрепить эту власть путем бесконтрольного господства над значительными группами людей, которые, независимо от преступлений отдельных лиц, в любом случае не пользовались защитой закона. В нацистской Германии нюрнбергские законы с их различением граждан рейха (полноправных граждан) и националов [656] (граждане второго сорта без политических прав) открывали дорогу движению, в котором все националы «чужой крови» могли в конце концов потерять свою национальность по официальному декрету. Только начало войны предотвратило соответствующее законодательство, которое уже было подготовлено в подробностях. [657] В то же время, разрастание групп безгосударственных в нетоталитарных странах вело к той или иной форме беззакония, организованного полицией, которое практически выливалось в согласование действий свободного мира с законодательством тоталитарных стран. То, что концентрационные лагеря во всех странах «обслуживали» одни и те же группы населения, даже если существовали значительные отличия в обращении с лагерниками, становилось все более типичным, поскольку отбор групп был целиком предоставлен инициативе тоталитарных режимов: если нацисты сажали человека в концентрационный лагерь, а он совершал успешный побег, скажем, в Голландию, то голландцы помещали его в лагерь для интернированных. Итак, задолго до начала войны полиция в ряде западных стран под предлогом «национальной безопасности» по собственной инициативе устанавливала тесные связи с гестапо и ГПУ, так что вполне можно было говорить о существовании самостоятельной внешней политики полиции. Эта полицейская внешняя политика функционировала совершенно независимо от официальных правительств. Отношения между гестапо и французской полицией никогда не были более сердечными, чем во времена правительства народного фронта во главе с Леоном Блюмом, которое проводило решительно антигерманскую политику. В сравнении с правительствами различные полицейские организации никогда не были отягощены «предрассудками» против любого тоталитарного режима. Для них информация и разоблачения, получаемые от агентов ГПУ, были почти так же хороши, как и от агентов гестапо или фашистов. Они знали о выдающейся роли полицейского аппарата во всех тоталитарных режимах, знали о его высоком социальном положении и политическом значении и даже не трудились скрывать свое сочувствие этому. То, что нацисты в итоге встретили столь постыдно ничтожное сопротивление полиции в оккупированных странах и что они сумели организовать такой большой террор с помощью местных полицейских сил, было результатом (по крайней мере частично) тех сильных позиций, которые захватила полиция за годы ее неограниченного господства и произвола над безгосударственными и беженцами.