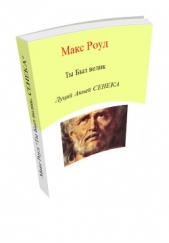Нравственные письма к Луцилию

Нравственные письма к Луцилию читать книгу онлайн
«Если хочешь взять власть над всем, отдай власть над собою разуму! Многим будешь ты повелевать, если разум будет повелевать тобою».
В книге представлены «Нравственные письма к Луцилию» — итог жизненных размышлений знаменитого древнеримского философа-стоика Сенеки, человека, который, своей смертью доказал верность идеалам своей жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Письмо CXIII
Сенека приветствует Луцилия!
(1) Ты требуешь написать тебе, что я думаю о вопросе, так часто обсуждаемом нашими: одушевленные ли существа — справедливость, мужество, разумность и прочие добродетели. Такими тонкостями, Луцилий, мы только одного и добьемся: всем покажется, будто мы заняты пустыми упражнениями ума и от нечего делать предаемся бесполезным рассуждениям. Я поступлю, как ты требуешь, и изложу мненье наших. Но признаюсь, сам я сужу об этом иначе. Есть вещи, которые пристали только носящим сандалии да короткий плащ [1]. Итак, вот что занимало древних, или вот чем занимались древние.
(2) Душа, бесспорно, одушевлена, поскольку и нас делает одушевленными, и все одушевленные существа получили от нее имя. Добродетель же есть не что иное, как душа в известном состоянии; значит, и она одушевлена. Далее: добродетель производит действие, а это невозможно для того, в чем нет самодвиженья; если же самодвиженье, присущее только одушевленным предметам, есть в ней, то и она одушевлена. — «Но если добродетель одушевлена, то она обладает добродетелью». — А почему бы ей не обладать самой собою? (3) Как мудрец все делает через добродетель, так и сама добродетель. — «Стало быть, одушевлены и все искусства, и всё, что мы думаем, всё, что наш дух объемлет собою, и в тесноте нашего сердца обитает много тысяч одушевленных существ, а каждый из нас — это множество живых существ, либо каждый содержит в себе множество их». — Ты спрашиваешь, что отвечают в опроверженье этого? Каждый из названных предметов одушевлен, но вместе они множеством одушевленных существ не будут. — «Как так?» — Я скажу тебе, если ты приложишь все свое вниманье и сообразительность. (4) Отдельный одушевленный предмет должен иметь отдельную сущность, а у этих всех душа одна; значит, быть отдельными они могут, быть множеством не могут. Ведь я — и человек, и живое существо, но ты не скажешь, что нас двое. Почему? Потому что двое должны существовать порознь, иначе говоря, должны быть отделены друг от друга, чтобы их было двое. А что множественно внутри единого, то относится к одной природе и, значит, существует как одно. (5) И душа моя одушевлена, и сам я — существо одушевленное, однако нас не двое. Почему? Потому что душа есть часть меня самого. Любой предмет может считаться отдельно, если он самостоятелен, а где он — лишь член другого предмета, там его нельзя рассматривать как нечто особое. — «Почему?» — Я отвечу: все особое должно принадлежать самому себе и быть завершенным в себе независимым целым.
(6) Я признавался тебе, что сам сужу об этом иначе. Ведь если с этим согласиться, то не одни добродетели окажутся одушевленными существами, но и противоположные им пороки и страсти, такие как гнев, скорбь, страх, подозренье. Можно пойти еще дальше: одушевленными будут все наши мысли, все сужденья, — а с этим уж никак нельзя согласиться. Ведь не все, что исходит от человека, есть человек. — (7) «Что такое справедливость? Некое состояние души. Значит, если душа одушевлена, то и справедливость также». — Нет, она есть состояние души и некая ее сила. Одна душа превращается во множество обличий, но не становится другим существом всякий раз, как совершает нечто другое; и то, что исходит от нее, не есть одушевленное существо. (8) Если и справедливость — одушевленное существо, и мужество, и прочие добродетели, то перестают ли они порой существовать, а потом снова возникают, или же пребывают всегда? Добродетели перестать существовать не могут, значит, в одной душе теснится множество, несчетное множество живых существ. — (9) «Но их не множество, все они привязаны к одному и остаются частями и членами одного и того же». — Значит, мы представляем себе душу подобьем гидры со многими головами, из которых каждая сама по себе сражается, сама по себе жалит. Но ведь ни одна из этих голов не есть одушевленное существо, все они — головы одного существа; и вся гидра — одно существо. А в химере ни льва, ни змея нельзя назвать отдельными существами: они — части химеры и, значит, отдельными существами не могут быть.
Из чего ты можешь сделать вывод, будто справедливость — одушевленное существо? — (10) «Она оказывает действие, приносит пользу, обладает движением, а обладающее им есть одушевленное существо». — Это было бы правильно, если бы она обладала самодвижением; но справедливость движима не самою собой, а душою. (11) Всякое живое существо до самой смерти остается тем же, чем появилось на свет; человек, покуда не умрет, остается человеком, лошадь — лошадью, собака — собакой, и перейти одно в другое не может. Справедливость — то есть душа в неком состоянии — существо одушевленное. Что же, поверим! Далее, одушевленное существо есть и храбрость — также душа в неком состоянии. Какая душа? Та же, которая только что была справедливостью? Одушевленные существа остаются, чем были, им не дано превратиться в другое существо и положено пребывать в том же виде, в каком они появились на свет. (12) Кроме того, одна душа не может принадлежать двум существам, а тем более — многим. Если справедливость, мужество, умеренность и все прочие добродетели — одушевленные существа, как же может быть у них одна душа на всех? Нужно, чтобы у каждой была своя, — или же они не будут одушевленными существами. (13) Одна тело не может принадлежать многим существам, — это и наши противники признают. Но что есть тело справедливости? Душа! А тело мужества? Опять-таки душа! Не может быть у двух существ одно тело. — (14) «Но одна и та же душа переходит из состояния в состояние, становясь то справедливостью, то мужеством, то умеренностью». — Могло бы быть и так, если бы душа, став справедливостью, переставала быть мужеством, став мужеством, переставала бы быть умеренностью; но ведь все добродетели пребывают одновременно. Так как же могут они быть отдельными существами, если душа одна и не может стать больше чем— одним существом? (15) И потом, ни одно одушевленное существо не бывает частью другого, справедливость же — часть души и, следовательно, не есть одушевленное существо.
Мне кажется, я напрасно трачу силы, доказывая вещи общепризнанные. Тут скорее уместно негодование, а не спор. Ни одно существо не бывает во всем подобно другому. Осмотри всё и вся: каждое тело имеет и свой цвет, и свои очертанья, и свою величину. (16) В числе причин, по которым удивителен разум божественного создателя, я полагаю и ту, что среди такого обилия вещей он ни разу не впал в повторенье: ведь даже на первый взгляд похожее оказывается разным, если сравнить. Сколько создал он разновидностей листьев — и у каждой свои особые приметы, сколько животных — и ни одно не сходствует[2] с другим полностью, всегда есть различия. Он сам от себя потребовал, чтобы разные существа были и не похожи, и не одинаковы. А добродетели, по вашим же словам, все равны: значит, они не могут быть одушевленными существами.
(17) Кроме одушевленного существа, ничто не может действовать само собою; но добродетель сама собою и не действует — ей нужен человек. Все существа делятся на разумных, как человек и боги, и неразумных, как звери и скоты; добродетели непременно разумны, но притом и не боги и не люди; значит, они не могут быть одушевленными существами. (18) Всякое разумное существо, чтобы действовать, должно быть сперва раздражено видом какой-либо вещи, затем почувствовать побужденье двинуться, которое наконец подтверждается согласием. Что это за согласие, я скажу. Мне пора гулять; но пойду я гулять только после того, как скажу себе об этом, а потом одобрю свое мнение. Пора мне сесть — но сяду я только после этого. Такого согласия добродетель не знает. (19) Представь себе, к примеру, разумность; как может она дать согласие: «пора мне гулять»? Этого природа не допускает: разумность предвидит для того, кому принадлежит, а не для себя самой. Ведь она не может ни гулять, ни сидеть; значит, согласия она не знает, а без согласия нет и разумного существа. Если добродетель — существо, то существо разумное; но она не принадлежит к разумным, а значит, и к одушевленным существам. (20) Если добродетель — одушевленное существо, а всякое благо есть добродетель, значит, всякое благо — одушевленное существо. Наши это и признают. Спасти отца — благо, внести в сенате .разумное предложение — благо, решить дело по справедливости благо; значит, и спасенье отца — одушевленное существо, и разумно высказанное предложение — одушевленное существо. Тут дело заходит так далеко, что нельзя не засмеяться. Предусмотрительно промолчать — благо, хорошо поужинать — благо, значит, и молчанье, и ужин — одушевленные существа!