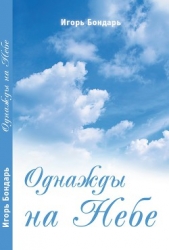Мир
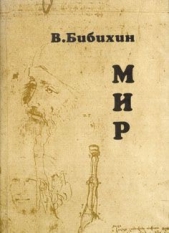
Мир читать книгу онлайн
Курс, прочитанный на философском факультете МГУ весной 1989 года. Главная тема - мир как единственное место и горизонт всякого существования и понимания (мир - бытие); как необъятное, неуловимое (мир - единое) и самое близкое, "то, что дает дышать" (мир - покой, согласие); в свете чего (мир - свет) только и можно видеть, понимать, быть.
Книга "Мир" предназначена всем, кто помнит о мире и ищет его; кто знает, что "философия не область, не культурная сфера, а попытка - ничем не обеспеченная - вернуть жизни, моей человеческой, то, чем она с самого начала размахнулась быть: отношением к миру, не картине, а событию".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы не обязаны повторять ошибку публицистики и приписывать науке объяснение всего. Наука говорит об условном: в таких-то условиях то-то. Вовсе не так, что, имея дело неведомо с чем — с единством, наука, так сказать, незаконно подсовывает знание туда, где его не было. Именно этим, со своей стороны, занята научная публицистика. Критика такой публицистики невозможна ввиду ее необозримого объема; следить за ходом ее мысли трудно чаше всего потому, что она сама за ним не следит. Настоящая наука, наоборот, по самому существу есть критика самой себя, потому что заранее обязывает себя выставлять только такие гипотезы и в таких определениях, которые допускали бы проверку и, следовательно, опровержение.
Строгую науку не удалось бы уличить в том, что она берет за свои единицы неведомо ей что — единства — и оперирует с ними как с известно чем. Наука по своему замыслу с начала и до конца оставляет единство, если воспользоваться выражением Василия Васильевича Налимова, нераспакованным. Чем неудержимее нераспакованное единство мира манит к распаковке, тем удивительнее способность науки пока еще не превращаться в то, что из нее давно сделала публицистика, — в миф.
Что бы ни говорила нам публицистика, наука распаковкой мира как целого не занята. Настоящая наука в своем существе — это чистая техника. Ее утверждения говорят в форме «если — то». В частности, конечно, и в форме «Если вы хотите распаковать мир, и если "распаковать" для вас значит то-то и то-то, тогда...». Наука никогда не говорит только о том, как пробурить скважину и как достать из-под земли, из-под болота или из-под воды нефть. Наука обязательно одновременно скажет массу других вещей: если вы достанете нефть, будет то-то; нефть образовывалась на протяжении стольких-то сотен миллионов лет; нефть при данных темпах расходования кончится примерно через столько-то лет; сжигание нефтепродуктов даст такой-то глобальный эффект; продажа их за границу даст такие-то преимущества сейчас и такие-то убытки тогда-то; альтернативные источники энергии такие-то, и т. д. Наука никогда не говорит: из-под земли нужно выкачать нефть. Распаковкой мира занята не наука.
Поэтому мы должны сначала спросить себя, почему мы киваем на науку, когда на каждом шагу оперируем миром в целом, разрушаем старый мир, строим новый, изучаем мир, осваиваем мир, путешествуем по всему миру, удивляем мир, покоряем мир, чего только не делаем с миром, и именно с целым миром, а то масштабы нашей деятельности нас не устроят: наука должна, мы требуем, подняться на мировой уровень, как будто недостаточно, чтобы она была просто самой собой, строгой наукой: история, мы стремимся, должна приобрести всемирный размах, как будто всемирная история не складывается из истории каждого человека; хороший конгресс — всемирный и т. д.
«Абсолютная цельность [totalitas, подразумевается — мира], пишет Кант («О форме и принципах чувственного и умопостигаемого мира», Соч. в 6 тт., М.: Мысль, 1964, т. 2, стр. 388), — хотя и представляется понятием повседневным и легко понимаемым... при более глубоком взвешивании представляет... для философа величайшие трудности». Величайшие трудности не в том смысле, что если приложить предельные усилия, эти трудности как-то разрешатся. «Величайшие» трудности здесь именно неподъемные. В том же сочинении, так называемой диссертации 1770 года, Кант не случайно заговаривает о том, что «может существовать интеллект, хотя и не человеческий (!), который одним взором ясно мог бы обозревать множество без последовательного прибавления единиц измерения» (Соч., т. 2, М.: Соцэкгиз, 1940, с. 396). Но что для философа и строгого ученого представляет величайшие трудности, для нефилософа не представляет.
Настала пора сказать машине человеческого хозяйствования на планете: остановись. Так уже и делают: выходят на быстроходных лодках, чтобы встать перед гарпунными пушками китобойцев, ложатся на рельсы, чтобы не прошли военные грузы. Только какой из поездов теперь надо остановить? Может быть, уже поздно? Может быть, следовало остановить первый поезд в прошлом веке? Может быть, надо, как делает образованная общественность на современном Западе, вообще отречься от того, что называют «империализмом техники», «империализмом власти», «гегемоническими структурами» (но за чем по существу стоит необходимая цельность бытия), чтобы «децентрировать» свое «сознание», одергивая самих себя всякий раз за всякую тень решимости и целенаправленности, поскольку «империализм мысли» тоже надо пресекать? Но всякое противостояние остается привязано к тому, чему оно противостоит. Отталкиваясь от единства, мысль отталкивается именно от него. А разве может мысль не отталкиваться ни от чего? Или надо обязательно от чего-то отталкиваться? Когда мысль отталкивается, она вроде бы движется. А если бы мысль ничто не толкало, она бы не двигалась? Мысль, похоже, должна двигаться, только тогда мы ее ощущаем. А когда она не движется, ее как бы и нет. Наша мысль пока никуда так и не движется. Она делала круги и вернулась к тому же самому. Она начала с невидимости мира, с незнания того, что такое единство целого, и теперь приходит к тому, что должно было бы быть ясно с самого начала: что не удастся «объяснить» единое целое. Если даже занятие науки — не распаковка мира, а задавание таких вопросов, что ответы на них становятся новыми вопросами, то уж конечно и мы не возьмемся наугад изрекать о том, о чем молчит наука. Строгость мысли не меньше, а в каком-то отношении больше строгости науки. Что такое мир? Дальше этого вопроса мы не пошли, и ответа на него у нас, похоже, не получится. Наш вопрос начинает звучать иначе, не с обещанием, а с отрешенностью. Во всяком случае, вопрос остается вопросом, единственно возможный ответ на него — собрание всех вопросов всех наук.
Это отрезвляющее и смиряющее признание. Хорошо, что мы его сделали хоть сейчас.
Человечество пришло к нему очень давно. Ведь нетерпеливая распаковка мира — не только не всеобщее, не только не всегдашнее, но и вообще далеко не преобладающее занятие человека в его истории. Отношения человека с миром складывались не так, что каждое очередное поколение разгадывало загадку мира и потом передавало эстафету младшему поколению. Мир человека манил, человек хотел обнять всё, но посреди самого порыва менялся и завещал не свои достижения в покорении мира, а совсем другие вещи, — терпение, примирение. Примирение с миром, составлявшее главную науку, которую старшее поколение, обучая, завещало младшему, только кажется разочарованием, пессимизмом.
В первой таблице истории древневосточного шумеро-аккадского Гильгамеша, — «всё видавшего», как значит это имя, — в 7-м стихе говорится: «В дальний путь ходил, но устал и вернулся». Усталость Гильгамеша — не позор, не слабость, а достижение, хотя и совсем другое, чем хождение в «дальний путь» на открытие мира, но не меньшее. Без этого второго, без «возвращения» Гильгамеш не был бы «всё видавшим», Гильгамешем. Это не отчаяние, а особенная полнота, которая, однако, не может показать себя, потому что она не в завладении миром, а наоборот, в трезвом отказе от завладения. Это полнота, но такая, которая не может однозначно продемонстрировать нам себя как именно полноту, и значит, не может пересилить наше подозрение, что, может быть, Гильгамеш «устал», пожалуй, всё-таки в каком-нибудь предосудительном смысле.
Пессимизм и разочарование видят и в исповеди Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — всё суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются». «Вси потоци идут в море, и море несть насыщаемо: на место, аможе потоцы идут, тамо тии возвращаются ити». Потоки возвращаются, и поток, который называется человеческой жизнью, тоже возвращается.