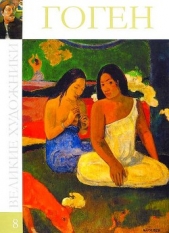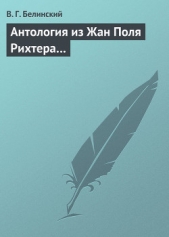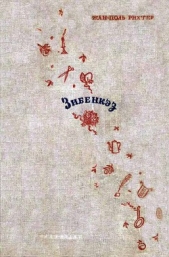Приготовительная школа эстетики
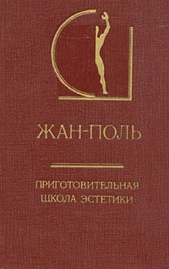
Приготовительная школа эстетики читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но почему же мы бегаем за французами по пятам, и посвящаем им столь непохожие свои сочинения, и не отстаем от них, и ждем от них милостей в позе просителя? В наказание они хвалят сразу и одинаковыми словами как самые лучшие, так и самые жалкие наши создания, вежливо не замечая существующих между ними различий. Вспомните старика Вольтера с его юмором! Когда Шёнайх послал ему свою бессмысленную и косноязычную поэму «Германн, освобожденная Тевтония» (разумеется, он сначала перевел на французский слова «освобожденная Тевтония»), Вольтер настрочил ему в ответ немало похвал и между прочим хвалил его так: непростительно «d'ignorer une langue que des Gorrscheds et vous rendes necessaire a tous les amateurs de la litterature» {8}. И чтобы для пущей важности и лести показать, что хвалит язык, который понимает, он закончил письмо примерно так: «Остаюсь без церемонии Ваш покорен слуга Вольтер».
Как в годы с 1740 по 1760 Лейпциг был Афинами на Плейссе или, правильнее сказать, Парижем на Плейссе, и наглядно подтверждал: да, Германия уже может создавать творения отнюдь не немецкие, но, напротив, французские, — так теперь Вена, насколько видно, постепенно превращается, но только в более ясно выраженной степени, в Афины на Дунае, или в Париж на Дунае, или в Париж на Вене [232], поскольку не только сухие, трезвые, прохладные, изящные, спокойные и красиво умерщвляющие свою плоть писатели подают нам немалые надежды, но и сам заполненный большим светом большой город, изящный, причесанный и прилизанный на французский манер, — тому порукою.
В своих отличающихся необычайной глубиной знания людей, мира, государственных дел и необычайно плоской философией и эстетикой «Размышлениях и пр. и пр.» Клингер, вкус которого уже смущен и обужен светом, предъявляет нам возражения, но только они, на наше счастье, возражают еще и друг другу, после чего нетрудно изничтожить обе перечащие стороны посредством третьей. А именно он упрекает нас в том, что мы пишем слишком по-немецки и потому не можем нравиться иностранцам, а во-вторых, в том, что пишем мы недостаточно по-немецки и малооригинально, излишне подражаем своим образцам, а потому не нравимся иностранцам. Он ставит свой вопрос так, как целое полчище германо-галлов, — почему наша поэтическая литература приходится не по вкусу другим народам, особенно людям светским и вельможам, — но он отнюдь не думает о том, что для этих последних британский, северный, греческий и индийский поэтический дух — такой же камень преткновения; ведь тон поэтов Англии, Севера и т. д. — всеобщечеловеческий, а отнюдь не придворный. Вообще народы взаимно приходятся друг другу не по нраву — за исключением народов немецкого, которому всякий достаточно по нраву, и галльского, который чуточку нравится всякому. И тем не менее Клингер вновь заблуждается, думая, что во всех творениях сказывается своеобразие народа, только не в немецких, — не наши ли немецкие создания выставляют за двери читателей-чужестранцев? Мы переводим всех на свете, — а почему так трудно переводить нас самих, начиная с Лессинга, Гердера, Клопштока, Шиллера, Гете и кончая Гиппелем, Музеусом и другими? Мы не можем сами потрогать и ощутить на ощупь все наше своеобразие и не можем же думать, что отличаемся сами от себя своей особенностью, — точно так же человек, родившийся на острове, не покажется самому себе чем-то особенным. Но почему же переводят тогда только плоско отшлифованных наших писателей, Гесснера, некоторых романистов и аделунгов 1740 — 1760-х годов — переводят часто и с успехом, тогда как наши горельефы не переводят совсем или переводят в барельефы? Если писателя можно перевести от начала до конца — это дурной знак, а француз то же самое мог бы выразить так: произведение, позволяющее себя переводить, недостойно перевода. Некоторые бессердечные сочинители, угождая вкусу всех и каждого, создают мозаику из стекла и дерева, — ее легко скопировать, удлинив вдвое и разрезав пополам, а наши отечественные писатели создают фрески, и перевезти в иные страны их можно только вместе со стеной, на которой они написаны.
Нет понятий, которыми бы пользовались столь же произвольно и которые растрачивали бы без пользы так, как «простоту» и «классичность». «Классическое» — это все высшее в своем роде. любая звезда, как бы низко ни стояла она над горизонтом, любая проходящая — за нами или перед нами — через линию меридиана; следовательно, «классическое» — это всякий материал в своем наивысшем состоянии, — бывают ведь классические толковые словари пчеловодства, словари лесоводства и словари слов, — поэтому высшее из высшего, как бы звезда, одновременно проходящая через линию меридиана и через фокус, должно одновременно растоплять и материал и форму, рождая наивысший сплав: такова поэтическая гениальность. Философия не бывает классической, путь к истине — материалу — бесконечен. Критик {1}, и даже многосторонний, напечатал в виде возражения: «Не степень эстетической ценности обращает творение искусства в классическое, а высшая степень эстетической культуры, то есть совершенство поэтического языка, чистота и естественность образов, верность и стройность мыслей, — но без ущерба для внутренней энергии и ясности». И в подтверждение своих слов он возглашает имена Гомера, Пиндара, Софокла, Петрарки, Ариосто, Сервантеса, Клопштока, Гете и других. Но я в ответ спрошу, что же останется от эстетической ценности, если лишить ее всех упомянутых признаков эстетической культуры — поэтического языка, естественных образов, энергии, тепла, внутренней меры? Разве может эстетическая ценность, то есть как бы гениальная душа, воплотиться иначе, нежели в этих самых признаках и чертах, которые она взращивает в себе как члены своего тела? Я уж и не возражаю против закравшихся сюда неопределенностей — «естественных» образов и «совершенного» языка, которые предполагают то самое, что еще нужно определить. После чего критик продолжает: «Понятие классического относится к числу. понятий постоянных. Художественное творение или классично, или нет, но оно не может быть таковым в большей или меньшей степени», — однако верно сказать так и о гениальном, и «классическое» и «гениальное» совершенно переходят друг в друга, потому что им одинаково неведомы степени — «больше» или «меньше». Но в таком смысле «классическое» подобно игре в карты, когда выигрывает только тот, кто не теряет ни одной взятки, и ни один из названных критиком классиков не является классиком, едва ли даже за исключением Софокла, потому что Лонгин (§ 33) и Аристофан (хотя только косвенно в «Лягушках») находили в нем недостатки. О частичных затмениях всех этих небесных тел нам сообщают старые и новые астрономические календари. Но если классики возвышаются над множеством обыденных, будничных и притом безукоризненных писателей лишь благодаря большему числу блещущих светом частей, то встает вопрос, что это за части — гениально-вдохновенные или языково-стилистические. В первых материал и форма, душа и плоть, как сказано, взаимно творят друг друга, а последние дадут только образцы грамматической правильности, и тогда, говоря словами Лонгина, Ион Хиосский будет классиком получше Софокла {2}, история человечества, написанная Аделунгом, классичнее «Истории» Гердера {3}, и Гете обнажит голову перед Меркелем с его крошечной головкой. Короче, классическое может заключаться только в обилии лучей, а не в отсутствии пятен. Да и, согласно нашему критику, не может быть классическим то, что еще можно совершенствовать; так, не может быть классической философия, потому что путь к истине, материал, бесконечен, — но ведь именно поэтому всякий живой язык бывает классическим только сегодня — завтра одни цветы завянут и вырастут другие. Любой мертвый древний язык тоже не был классическим до тех пор, пока еще рос и рос, — только смерть раз и навсегда преображает его.